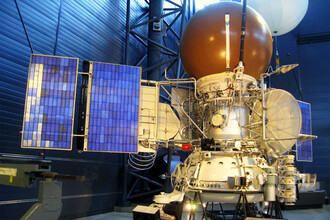Как это вышло, что в декабре 1991 года три мужика бухнули на даче и развалили великий могучий Советский Союз? И огромная армия не вывела танки, и КГБ не отправил своих агентов их арестовать, и милиционеры не помешали спустить флаг, под которым они присягали? И миллионы граждан не вышли на демонстрацию, чтобы потребовать уважения к итогам референдума, на котором они голосовали за сохранение Союза всего полгода назад?
Может, побоялись? Но за тремя мужиками не стояло ни одного батальона. Может, все уже разуверились в социализме и великодержавности? Но и сегодня, спустя почти четверть века, эти идеи популярны как никогда. Может, просто устали от политики? Но делить власть и приватизировать собственность народ тут же ринулся с небывалым энтузиазмом.
Почему в беловежском декабре всем было все равно?
Предложу свой ответ: подавляющее большинство советских граждан перестали отождествлять себя с советским государством. Они уже не говорили о своей власти «мы», «наши» — теперь это были «они», «эти».
Дело даже не в том, что власть перестала устраивать практически всех: партийному ветерану она уже не могла обеспечить чистоты марксистского учения, а начинающему миллионеру — нормальных условий для ведения бизнеса, рабочим оборонки — ударной работы на благо родины, пенсионерам — сахара для варенья, неформальной молодежи — джинсов и видеокассет и т.д. После ГКЧП государство окончательно перестало генерировать главный для государства ресурс: самоуважение, чувство причастности к чему-то лучшему и большему, чем твоя частная жизнь.
Не только персонально правительство, но и само советское государство стало восприниматься как занудная ноябрьская слякоть за окном: ну да, она есть, надо потеплее одеваться, пить горячий чай (с сахаром, если повезло достать) и пореже выходить на улицу. К весне как-нибудь само рассосется.
И когда рассосалось до срока — никто не вышел на улицу с требованием слякоть вернуть.
Почти за двадцать лет до Беловежья об этом пел Александр Галич:
И пускай я гроши наскребу с трудом,
И пускай велика цена —
Кредитор мой суровый, мой Отчий Дом,
Я с тобой расплачусь сполна!
Но когда под грохот чужих подков
Грянет свет роковой зари —
Я уйду, свободный от всех долгов,
И назад меня не зови.
Чувство причастности и тождественности своему государству вернулось к нам под именем «Россия».
Нет, у нас постоянно было множество претензий к наличной власти, далеко не всегда мы принимали ее представителей за «своих». Но государство все-таки было нашим. И если мы выходили на Болотную, то не для того, чтобы его разрушить, а для того, чтобы его исправить: привести политическую практику в полное соответствие с Конституцией.
Что происходит сегодня? Все это вроде бы частности: амнистия Васильевой, приговор Сенцову, фарс с региональными выборами, давление гусей тракторами, поиск отравы в импортном стиральном порошке, стремление заблокировать «Википедию» и пр. — вроде бы по отдельности каждый эпизод либо не страшен, либо страшен лишь для очень небольшого круга людей, и каждый надеется в этот круг не попасть.
Но общий смысл считывается вполне ясно: власть делает все, что захочет, и никто ей не указ, никто не может ей помешать, а кто попытается — будет наказан с показательной жестокостью.
А для большинства власть вполне даже вегетарианская, не мешает слушать «Би-би-си» и даже ругать ее в фейсбуке (его, кстати, с 1 сентября вроде как по закону положено запретить за хранение личных данных за рубежом, но, может, смилуются, не запретят?). Она как ноябрьский дождь за окном: неприятно, уныло, но можно приспособиться, притерпеться, пережить. С таким дождем не поспоришь, его не отменишь, конечно… Но с таким дождем никак не получится себе отождествить.
Если что-то хотите изменить в нашей стране — идите на выборы, говорили нам всю дорогу.
Но после феерии с подписными листами, после задержания главного оппозиционного кандидата Ильи Яшина прямо на встрече с избирателями в Костроме (об избранном депутате Немцове уж и не говорю) — не хочется про это слушать.
Если с вами обошлись несправедливо, идите в суд, говорили нам — но после 20 лет строгого режима режиссеру, который, по версии следствия, хотел взорвать памятник Ленину, в суд не получается верить.
Для начала нам надо всем честно платить свои налоги, повторяли нам — но вот на свободу выходит дама, в чьем кармане осели сотни миллионов этих самых налогов. И ничего. Слякоть, ветер, ливень…
Все эти годы, начиная с 1991-го, мне казалось, что среди всех наших бед и неурядиц мы как граждане можем хоть отчасти что-то исправить. Сейчас у меня опускаются руки. Я, конечно, могу уйти целиком и полностью в частную жизнь. Но назад меня — не зови.
А впрочем… в 1991 году совсем не было гражданского общества, сейчас есть его элементы. Люди готовы объединятся неформально, чтобы сделать свою жизнь лучше. И наверное, однажды именно это умение, именно привычка к горизонтальным связям позволит нам не соскользнуть в кровавый хаос, если, конечно, мы этому действительно научимся. И это единственное, над чем сейчас стоит трудиться.
Я знаю, что у нас не будет «майдана». Вот что угодно: нашествие марсиан, бунт стиральных машин, земля налетит на небесную ось — но к «майдану» наша власть готова, она задавит его в зародыше.
Но я вижу и другое: все меньше становится тех, кто не даст знамени упасть, когда земля налетит-таки на небесную ось, какой бы эта ось ни оказалась. Гражданам страны от пенсионерки до олигарха, от столичного хипстера до борца за светлое будущее Новороссии объясняют: вы тут никто, от вас ничего не зависит, так что подчиняйтесь и живите своей частной жизнью, пока дают. И они постепенно усваивают урок.
На нашей планете есть только одно государство, которое существует несколько тысячелетий и возрождается на прежнем месте после любых кризисов, войн и революций, – это Китай. Говорят, во многом китайцы обязаны своим политическим долголетием мудрости великого Конфуция… Рассказывают, что Конфуция однажды спросили, что нужно для успешного управления государством. Учитель ответил: «Оружие, еда и доверие народа». Его переспросили: если придется чем-то пожертвовать, от чего именно отказаться? «В первую очередь, — ответил Конфуций, — от оружия. А во вторую — от еды».
Жаль, что у нас наоборот.

 Цивилизация
Цивилизация