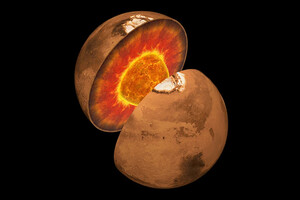Это, конечно, Сорокин-ретро: из всех сорокинских произведений «Метель» ближе всего к «Роману», написанному еще в 1980-х. История снова замерла, как будто ее в России никогда и не было: прошло пять поколений после Сталина, на стенах портреты очередного государя и двух его дочек, деревня живет как при Глебе Успенском, бес в который раз водит нас по кругу. Естественно, буйным цветом цветет литература, как всегда в России, когда история впадает в спячку.
Сюжет повести до неприличия по-сорокински литературен.
Все метели, от Пушкина до Пастернака, идут в дело. Путешествующих по частной и казенной надобности тоже не мешает вспомнить, как минимум в диапазоне от Чичикова до чеховских докторов. Вплетается по случаю даже Достоевский с последними минутами приговоренного к смерти — классический монолог Мышкина, разве что в рокерской обработке, выдает под действием наркотика главный герой «Метели».
Сказки плюс вся низовая культура тоже не забыты: великаны, карлики, волшебные предметы, колодец с фекалиями — к сорокинскому сюжету, как к снежному кому, прирастает все.
Уездный эпидемиолог Гарин спешит в деревню, зараженную невнятно прописанной у Сорокина боливийской чернухой. До чернухи доктор не дотянет: наркотики и великан, так некстати разлегшийся на дороге, заведут его прямиком в Китай. Гаринский возница, всю поездку морочивший голову максимами в духе Платона Каратаева, помрет еще раньше — не потому, что интеллигенция в лице доктора заездила, а просто потому, что каратаевская болтливость в народе давно уже не дружит с каратаевской деловитостью.
Что же до самой метели, эту изъезженную тему Сорокин явно закрывает.
Отношения человеческого мира и стихии теперь точно не строятся по принципу «осмысленное — деструктивное». Трудно представить что-то более хаотичное, чем действия сорокинских марионеток: здесь и постоянные кульбиты, и псевдопатетические речи, и демонстративно нелепые сюжетные ухабы, и общая зашкаливающая российская бестолковость.
Зато метель предсказуема и постоянна.
Так же, как и все, что не нуждается в русском человеке, например, самозарождающийся войлок племени витаминдеров (это от их зелья пробивает на Достоевского) или растущие по минутам ногти жертв чернухи.
Одной природы с метелью и сорокинский язык — гладкий, пресноватый; язык, за пределами которого остается все человеческое.
Если признать его выжимкой советской прозы образца 1960—1980-х годов, тогда центральное событие «Метели» нужно описывать как встречу высокой классики с усредненной соцреалистической нормой. После которой у русской литературы, конечно, одна дорога — в Китай.
Владимир Сорокин. «Метель». М., АСТ, 2009.

 Цивилизация
Цивилизация