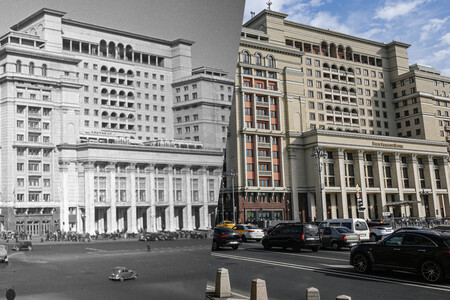Можно считать, что деревня Долгово находится в глуши: до ближайшего населенного пункта, где есть магазин, почта и милиция, 17 км, а до автобусной остановки, откуда можно добраться в райцентр, — все 25. Раньше Долгово окружали другие деревни, да и в нем самом были клуб и начальная школа, но больше ничего: учительница за зарплатой ходила 8 км в сельсовет.
Электричество провели уже в шестидесятые, а до того обходились керосином.
Даже обычных керосиновых ламп не было, находили стеклянный пузырек, скручивали из тряпочки фитиль, из жестяной банки вырезали кружок — и вот светильник готов. Зато, вспоминают старики, было многолюдно, на престольные праздники сходились толпами, пекли угощение — пшеничный хлеб на сметане. Поскольку в будни ели только ржаной.
Пустеть местность стала в конце пятидесятых, когда, как говорят сами местные жители, «народ ушел на производство», потому что уж больно тяжело было жить в колхозе — тяжело и бедно. Войны в этих краях не было, хотя все мужики, кто не ушел на фронт, ходили на обязательные работы, копали рвы. Ждали и сюда немцев. Но оккупации не было, боев не было, а была «голодовка».
Крапиву и лебеду не ели, до этого не дошло, собирали на полях клеверные «балабошки», сушили в печи, толкли, добавляли немножко настоящей муки или крахмала и пекли тяжелые жесткие колобки. Собирать клевер тоже не разрешалось, делали это тайно. Но в основном спасали коровы, правда, за них надо было платить большой налог, отдавали его маслом: молоко сдавать было некуда.
Масло собирали, перетапливали и сами относили на заготовительные пункты. Туда же — шерсть и мясо, если держали овец, яйца, если были куры. Но поскольку кроме того, что выращивали сами, есть больше было нечего, личное хозяйство все вели. От коровы детям оставалось хотя бы снятое молоко, поросенку — обрат, была своя картошка, морковь, капуста, в общем, голодать голодали, но никто не умер.
Спрашиваю тех, кто не уехал, почему все же остались. «Не могу жить в городе, душно, — вот самый частый ответ. — Здесь у нас просторно».
Была когда-то в Долгово большая деревня, сейчас живо шесть домов. Два двора — с большим хозяйством, хотя коров не держат уже, но куры и поросята есть, мужики еще «в поре», один прежде был егерем, другой — механизатором. Оба продают сено, скашивают поля, зимой заготавливают дрова. Охота, рыбалка.
Жены уже на пенсии, но еще вполне здоровы, силы есть, дети выросли, уехали. Вокруг домов — цветы, огород, в лесу грибы-ягоды. Это семьи работящие и не особо пьющие, справные.
А еще живут в Долгово две подруги с разницей почти в десять лет, одной скоро восемьдесят, другой слегка за семьдесят. Раньше они водили компанию, в молодости, когда их мужья были живы, собирались вместе с еще двумя, но в старости уже не до дружбы.
Обе ходят с палками, старшая еще и видит плохо: когда-то корова лягнула, когда та ей больное копыто осматривала. Добро бы своя была корова, сокрушается она, а то ведь соседская.
И Настасья, и Валентина про былое вспоминать никак не хотели, уж я и их уговаривала, умасливала. Отсылали меня друг к дружке, отнекивались, что не помнят ничего. Но потом все же смягчились. И вот, честное слово, на первый взгляд бабки и бабки, даром что возраст не такой уж большой, но начали вспоминать, рассказывать, и такие открываются удивительные характеры — яркие, самобытные, неприрученные.
Валентина — бывшая учительница. Родилась она вне брака: у матери ее был муж, двое детей-близнецов, но муж ушел на фронт, а мальчики в войну умерли от скарлатины, четырех лет от роду. И когда война уж заканчивалась и муж должен был вернуться живой, не убитый, вспыхнула любовь, сломавшая ей жизнь.
Муж, узнав об измене, ушел к соседке, а любимый уехал из деревни, оставив на память о себе девочку Валю с большими светло-голубыми глазами, каких больше ни у кого в родне нет. У Валиной матери было восемь братьев и сестер, и прижитого ребенка отправили подальше, к дяде в Кинешму. Там она окончила 11 классов, поступила в Ивановский пединститут, и все пошло было своим чередом, ухажер был, с финансового, но летом поехала домой, к матери, и встретила другого парня. А в ноябре они уже расписались, и осталась Валя в деревне с тремя курсами пединститута, мужем и дочкой.
Пошла учительствовать в школу, сначала в своей деревне, потом подальше: в своей детишки кончились, на два класса уже не хватало… Родила еще близняшек, двух девчонок. Жили как все: хотя и учительница, а хозяйство — коровы, огород, дети, хлеб сами пекли, в магазине тогда не продавали. Плохо одно, муж, казавшийся таким замечательным, начал пить. К концу своей жизни, а умер он пятидесяти лет, пил уже по-черному, без просыпу. А у Валентины на руках — мальчик, внук.
Старшая дочь получилась удачная, все с ней хорошо, тоже учительницей стала, живет недалеко, в 70 км, двое детей. А вот с близняшками — хуже. У одной муж молодым погиб, случайно и глупо. Ехали по дороге с товарищем, тот за рулем, и на ходу отскочило колесо, и со всего маху машина въехала в кювет, шофер — без единой царапины, а муж дочери — насмерть в висок. И хотя было ему всего 22 года, оставил своей молодой вдове двух детей.
Как уж пережили, не спрашивайте, только дочь уехала в Кострому, там и теперь живет, к счастью, все у нее хорошо: и замуж вышла, и детей подняла.
А вот вторая попала, что называется, в дурную компанию, время было сложное, конец 1980-х, села в тюрьму за воровство, вышла, опять села, а там ребеночка родила, мать взяла внука, стала растить.
Одной трудно, и, когда сосед овдовел, она подумала-подумала, чего, мол, где теперь кого искать, и сошлись. Живут нерасписанные, сын ее деда — один из тех исправных хозяев, так что помогают слегка.
В доме у Валентины — городская обстановка, стены оклеены обоями, но и дом не изба, а из тех квартир, что построены колхозом для молодых специалистов, водопровода нет, но баллоны с газом все же регулярно привозят, а для отопления есть печи, воду носят из колодца, а стирают до сих пор в речке. Правда, дети привезли Валентине машину-автомат, но пока ее не подсоединили, да и, говорит Валентина, разве же из машинки белье будет такое, как из речки?
Из развлечений — только телевизор да диван. Но это скорее для деда, а счастье самой Валентины — в огороде. Я, говорит, в феврале оживаю, как первую рассаду посажу, а до того хожу с осени кислая.
Учительствовать Валентине очень нравилось, но потом дети кончились и в другом селе, так что пошла она в клуб, работала там, и спектакли ставили, и песни пели, и праздники отмечали, но клуб закрылся.
Стала бригадиром, работала в колхозе, но и колхоз развалился. Как советская власть кончилась, колхоз тут же закрыли, имущество разделили, решили хозяйствовать группами, кто посильнее да активнее. Но не вышло. То есть зерно выращивали, урожай хороший, даже пшеницу сеяли, но… девяностые годы, никому это зерно было не нужно, что вырастили, то скотине и скормили…
Спрашиваю, а когда вы хорошо жили? Отвечает: сейчас. Сейчас — лучше всего.
Все есть, спасибо магазин раз в неделю приезжает, покупай, что душа желает, да вдвоем, да две пенсии. Ну и дети, если что, не оставят. Плохо только, что ноги болят, давление, но вот зимой поедет Валентина к дочери в Кострому, там и к врачу сходит, потому что здесь лечиться негде.
От Валентины до Настасьи наискосок — два шага, но при этом попадаешь в другой век. Изба стоит, как в старые времена, на высоком фундаменте, с двором, с русской печью на полкомнаты, перегородки дощатые, крашенные синей краской, окошки маленькие, не открываются, закут с занавеской и рукомойником с пипкой, чулан с чугунными утюгами, бочки, сделанные мужем хозяйки, сечки для капусты, светелка, где чеснок сохнет, старые стулья ручной работы, местный мастер сделал, лавки, иконы в красном углу. Едят из мисок. Пьют из кружек, которые называют бокалами.
Анастасия Васильевна, а попросту бабка Настя, — старейшая жительница деревни, родилась до войны, в 1938 году. Маленькая, жилистая, только в голове — неустойчивость, поэтому с палкой ходит, зубов нет совсем, глаз один не видит, а так ничего еще, бойкая. Отца своего она не помнит, потому что он в 1942 году был призван на фронт, несмотря на возраст, ему было уже 48 лет, три месяца он повоевал, а в июне пропал без вести.
Старший сын его тоже пропал, так что семье никаких пенсий не платили. Мать Насти осталась с двумя детьми трех и шести лет и со слепой своей матерью, так что руки одни, а ртов много. Мать работящая, корову держала, овец, кур, коз, а Настя сейчас — только козу. Зато свое молоко — больше ни у кого в деревне нет. А коза летом литр в день дает.
Но тогда, вспоминает бабка Настя, все плохо жили, все были бедные, зато как гуляли, как праздновали, все вместе, и любому сладкому куску радовались, а что сейчас — каждый день праздник. Были бы деньги.
Но вот денег у бабки Насти нет. Пенсию ей дали «по минималке» — восемь тысяч. Те, кто позже выходил, тем больше начислили, с завистью говорит она. Вот дождусь ли восьмидесяти, еще два года, тогда добавят.
Живет она с сыном. Сыну 50 лет, не работает, и не потому, что работы нет, хотя ее и нет, но другие находят. Пьющий он. Этого бабка Настя стыдится, поэтому про сына ничего не говорит.
Дети — это единственная настоящая гордость всех деревенских жителей.
Для детей работают, детей содержат, обучают, отдают им последнее, и поэтому дети — результат и итог жизни. Удачные дети — счастье семьи, их фотографии висят на видном месте, ими хвастают. Дети неудачные — позор и несчастье. Сын Настасьи пропивает и прокуривает ее пенсию, на вид он тихий, скромный, но что-то с ним явно не так. Не женат и женат не был. Мать его жалеет.
Сыновей у нее трое. Поднимала их одна, муж, хотя и не война, тоже погиб, и тоже в 48 лет, попал под собственный трактор. Младший сын живет тут же, в соседнем доме, с женой, и парень у них уже взрослый, но тоже не работает, и, как намекают местные, оба мужика пьющие, жена болеет по женской части, и потому ее разнесло.
Лишний вес — проклятие местных женщин, поскольку питаются они в основном картошкой и макаронами, едят много соли, масла и сладкого и с возрастом себя запускают. Вторая невестка бабки Насти тоже женщина очень полная, поэтому ходить ей трудно, а работать-то надо. Живут они в 8 км, но по сравнению с Долгово их поселок гораздо ближе к центру.
Зато в Долгово петухи поют, трактора урчат. А кабаны и в старые времена близко подходили, приходилось дежурить по ночам на картофельном поле, а то секачи весь урожай выкопают. Ночью дежурили у себя, днем работали на колхоз. Сено тоже ночами косили, и тогда, вспоминает Настасья, хороших делянок не выделяли, сами искали, где в лесу полянку, где по обочине, где осоку по реке, иной раз косишь в октябре, все аж звенит, мерзлое.
Зато теперь трава стоит некошеная, заросла деревня бурьяном да репьем, а поля — березами и ольхой. «Деды наши корчевали, а мы — заростили», вздыхает Настасья. С ее крыльца виден старый магазин, вокруг крапива до крыши да два завалившихся дома, сосед умер год назад, но до того пару лет, со смерти жены, все больше горевал да лежал, крыша и упала.
По кладбищу видно, как много раньше здесь жило народу, — оно в 3 км от Долгово, в бывшем селе Угор, от которого не осталось ни следа — ни от домов, ни от церкви. Да и от большинства могил — только бугорок. Ухаживают едва ли за десятком, тут и кресты стоят ажурные, витые из проволоки, на них фотографии. Женщины, рожденные в начале двадцатого века, все в платочках. Мужчины — с бородами.
От советского времени — никаких знаков, ни красных звезд, ни памятников. Пшено рассыпано, да стопочки с наливкой, да конфеты, которые еще не съели птицы и муравьи.
Одиноким приветом из мира сегодняшнего краснеет на могилке шоколадка «Киткат». Даты жизни, если они есть, свидетельствуют, что война была не большим бедствием в этих местах, чем мирная жизнь. Молодых парней тут хоронят едва ли не чаще, чем стариков. Травмы, аварии, езда в пьяном виде, просто алкоголь — жизнь дешева в наших местах.
Есть соблазн такой привычной грусти: мол, скоро не будет никакого Долгово, совсем уходит, исчезает поэтическая русская деревня. Но — даже если не иметь в виду, что традиционная деревня в ее активной фазе была довольно мрачной реальностью — все всегда находится в стадии перехода. И эта деревня, и все эти деревянные лопаты и чугунные утюги, сохранившиеся еще, и прекрасные дали, и петухи, и бабушки с чудесным говором и словами типа «размандышница» — обречены, конечно. И так задержались дольше положенного.
Конечно, я в восторге от этого путешествия в прошлое, случайно сохранившееся для нас, но ведь и я сама уже прошлое, и я — уходящая натура, предметы моего детства и юности тоже постепенно становятся антиквариатом. Так хочется все запечатлеть, сохранить, уберечь от зарастания и уничтожения. Напрасно, наверное.

 Цивилизация
Цивилизация