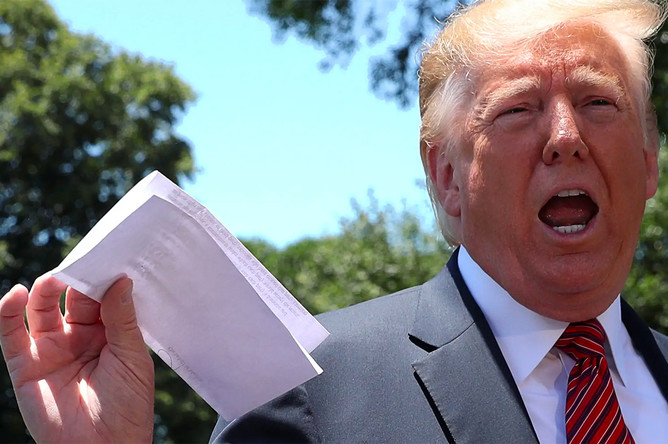Подпоручик Дуб, уходя, проворчал:
— Мы встретимся у Филипп.
Что за странная фраза? Это цитата из Шекспира, из «Юлия Цезаря». В битве у Филипп в 42 году до н.э. цезарианцы Октавиан и Антоний побили республиканцев Брута и Кассия. Фраза означает «решающий бой еще впереди».
Но Швейк все понял иначе.
— Что он тебе сказал? — спросил Швейка повар Юрайда.
— Мы назначили свидание где-то у Филиппа. Эти знатные баре в большинстве случаев педерасты.
Шумное обсуждение сексуального скандала в 57-й школе закончилось. Общепринятые правила корпоративной этики все же победили снисходительный междусобойчик, вот и хорошо. Но осадок остался, и вот какой.
В этом разговоре меня заинтересовала некая вроде бы побочная тема, которая тут же сплелась с главной и всячески ее подчеркивала. На беду, школа № 57 — особенная, замечательная, с отличным преподаванием, многие ее выпускники стали успешными людьми, заслуженно известными в своих профессиях. Однако не это главное. Главное, что там учатся дети из… из каких семей? Влиятельных? Богатых? Знаменитых?
Ага! То есть эти знатные баре в большинстве случаев педерасты, — завопили комментаторы. — А также растлители малолетних и вообще извращенцы. Дескать, весь этот школьный разврат — производное от т.н. «элитарности».
О, это магическое слово! Лучший инструмент консолидации разрозненных индивидов.
Никого — ни американцев, ни патриотов, ни креаклов, ни ватников, ни либералов, ни легалистов — не ненавидят так слаженно и единодушно, как «элиту».
«Илитку», как обидно обзывают ее в социальных сетях.
Элита, однако, существует как некая общественная необходимость. Ну, или так — общественная непреложность. Поэтому не будем приписывать этому слову оценочный смысл. Смешно, но элита безусловно хорошая, важная и нужная существует лишь в животноводстве и растениеводстве.
Когда мы говорим «элитная сука, элитный хряк, элитная рассада» и тому подобное — мы можем быть уверены, что данная элита не подведет. Если элитную суку покроет элитный кобель, то щенки выйдут отличные. Почему так? Потому что животную и растительную элиту отбирает человек. Опытный животновод или агроном.
Если элитная сука по необъяснимым причинам вдруг принесет нестандартных щенков — ее немедленно вычеркнут из списка элиты.
С человеческой элитой хуже — чаще всего люди сами себя туда назначают и уходить оттуда не хотят.
Кроме того, действует исконная человеческая привычка расставлять все и вся по разнообразным лесенкам. Если собрать в классе тридцать двоечников, то среди них все равно появятся пять-шесть отличников — так сказать, в предлагаемых обстоятельствах. На фоне остальных. Это очень удобно, на самом-то деле. Не только самим отличникам, но и учителям. То есть удобно обществу.
«Случалось, хотя и очень редко, что единичные ответы Штейна или Айзенберга были настолько слабы, что, будь на их месте Такаджиев, он безусловно получил бы тройку. Но так как это были Айзенберг и Штейн, зарекомендованные годами пятерочники, то преподаватель, даже за такие их ответы, хотя быть может и скрепя сердцем, ставил им пять. Обвинять преподавателей за это в несправедливости — было бы столь же справедливо, как обвинять в несправедливости весь мир. Ведь сплошь да рядом уже случалось, что зарекомендованные знаменитости, эти пятерочники изящных искусств, получали у своих критиков восторженные отзывы даже за такие слабые и безалаберные вещи, что будь они созданы кем-нибудь другим, безымянным, то разве что в лучшем случае он мог бы рассчитывать на такаджиевскую тройку. Главной же трудностью Буркевица была не его безымянность, а что гораздо хуже, годами установившаяся репутация посредственного троечника, и вот эта-то репутация посредственности особенно мешала ему двигаться и стояла перед ним нерушимой стеной». (М. Агеев, «Роман с кокаином», 1934).
Поэтому справедливо было бы говорить не об «элите» — а о «сотом проценте». О сравнительно небольшом количестве самых влиятельных, чиновных, знаменитых и богатых.
Во влиятельных и знаменитых включаются самые умные и талантливые. Для России один процент — это не так уж мало в абсолютных числах. Это миллион четыреста тысяч человек. Миллион взрослых и почти полмиллиона детей. Которые ничем не заслужили права называться «элитой», кроме того, что родились в семьях людей влиятельных, или чиновных, или знаменитых, или богатых.
Увы, в элиту попадают случайно. Не только внезапно сорвав миллиардный куш на бирже, приобретя виллу в престижном пригороде, пожертвовав сто миллионов на музей и подружившись со скрипачами и министрами. Но и еще проще: родившись в этакой семье.
Вернемся на минутку к полузабытому скандалу в школе №57. Кто-то из бывших учеников этой школы написал в интернете: «На самом первом уроке в девятом классе нам сказали, и продолжали повторять, что мы особенные, лучше, умнее, чем все остальные, а значит, нам можно немножко больше».
В нашей школе было как будто по-другому. Нам (не всем, а некоторым — в нашем классе, помимо детей рабочих и служащих, учились дети прославленного художника, дипломата, главного редактора, завотделом ЦК и адмирала; ну и я — сын тогда еще совсем не знаменитого писателя) — нам говорили, не перед всем классом, разумеется, а наедине: Так получилось, что вы из известных семей, вы больше читали, у вас больше возможностей — например, у вас есть отдельные комнаты, чего нет у многих ваших товарищей. Но кому много дано, с того много спросится. Вы должны вести себя и учиться лучше, чем остальные. Будьте достойны ваших родителей. На вас особый груз — помните об этом. В общем, большому кораблю — большое плавание!
Вроде бы совсем наоборот от «вам можно то, чего нельзя другим». Но ведь по сути — то же самое! Мы уже с детства были «большими кораблями» — что, конечно, полная ерунда и несправедливость…
Существует некий миф о том, что элите дозволено недозволенное, и она не судима за это. В популяризацию этого мифа особый вклад внес маркиз де Сад. Но на самом деле это не такой уж миф. Увы. К стыду и несчастью.
Горькая правда — поганой «илитке» в реальности можно больше, чем другим.
Но не потому, что таков закон или такова ее, илиткина, наглость, а потому что таковы люди. Таково, извините за выражение, поганое устроение общества.
Вспомним традиционный эпизод, который, с теми или иными вариациями, встречается в старинных английских, да и не только английских, детективных романах: некий простодушный господин прибегает в полицию и говорит, запыхавшись, что он неделю назад поздним вечером возвращался с охоты на вальдшнепов и своими глазами видел, как лорд Блумсберри шел по болотной тропинке, держа на плече нечто большое и завернутое в ткань, похожее на тело человека, а потом утопил это в болоте. А вчера по всему Мидлтауну разнеслась весть о пропаже мисс Элеоноры Кулидж, молодой гувернантки детей лорда Блумсберри. Надо немедленно сделать обыск!
«Что? — возмущенно говорит полицейский инспектор. — Как вам не стыдно! Клеветать на почтенного джентльмена, род которого уже восемь поколений владеет замком Блумскасл! Какие у вас доказательства, кроме того, что вам в полумраке что-то там почудилось?»
И если бы не благородный отставной сыщик, случайно проходивший под окном, серийный убийца гувернанток лорд Блумсберри так и остался бы безнаказанным.
Ну и кстати этот же полицейский, оберегающий покой и репутацию лорда, без промедления арестовывает некоего плохо одетого мужчину только лишь за то, что он три часа отирается на площади перед вокзалом и вообще выглядит подозрительно — три дня небрит и ботинки не чищены.
Этот превращенный в реальность миф существует еще и потому, что общество относится к сотому проценту (он же «илитка») крайне противоречиво и двойственно.
В нашем образованном классе с XIX века воспитываются ценности всеобщего равенства, воспитывается некий стыд за свою образованность, обеспеченность, влиятельность. Как сказано в раннем рассказе Чехова, «стыдно носить бороду — из нее можно сделать подушку для бедного!».
Нет хуже оскорбления для русского интеллигента, чем отнести его к «элите».
Отсюда рикошетом — почти общенародная ненависть к «илитке», то есть к более или менее обеспеченной интеллигенции, особенно творческой.
Но как только интеллигент начинает каяться — то его начинают презирать еще сильнее. Акт покаяния рассматривается как мазохистский эксцесс: ты каешься — вот мы тебя и побьем как раз за то, в чем ты каешься.
Чистосердечное признание усугубляет тяжесть наказания.
Наследие 1937-го — если бы ты отпирался, мы бы тебе дали десять лет, а то, глядишь, и вовсе отпустили бы, а раз сознался — стань к стенке. Некая контрхристианская составляющая нашей культуры. Но это так, к слову.
Противоречия, однако, на этом не кончаются. Презираемая народом «илитка» — это именно что кандидаты и доктора наук и вообще люди т.н. «чистых профессий». Вот тут идет громкий крик о равенстве. Отдельные ренегатствующие представители «илитки» говорят, что инженером можно стать за полмесяца, а на землекопа надо учиться полжизни, и т.п. Казнят сами себя за семейственность, высмеивают ее. Что на самом деле по-человечески неправильно. Здесь нет ни смелости, ни широты ума. Наоборот, в этих насмешках над собственным домом лишь позорная мягкотелость, безволие и безмыслие — ведь защищать и отстаивать куда труднее, чем глумиться и хихикать…
Однако как только разговор касается денежной или политической элиты — тут происходит смена полюсов.
Человек, который утром возмущенно кричал: «Откуда у оппозиционного журналиста квартира и машина, на какие шиши?! Ворье! Печеньки Госдепа! Почему дочка режиссера снимается у него в кино? Позор!» — уже вечером по поводу, к примеру, часов мэра или яхты министра, складывает губки бантиком и говорит: «Фи! Как это неинтеллигентно — считать деньги в чужом кармане!» А про семейственность в этом социальном сегменте говорят: «Вы хотите установить запрет на профессии по принципу родства? Это хуже сталинизма!»
Сотый процент, он же «элита», он же «илитка», — такая же необходимая часть общества, такая же важнейшая часть общественного сознания, как бомжи. Аршин, которым мы измеряем себя и окружающих. Контейнер, куда мы складываем собственные мечты и страхи. Пожалуй, всё.

 Цивилизация
Цивилизация