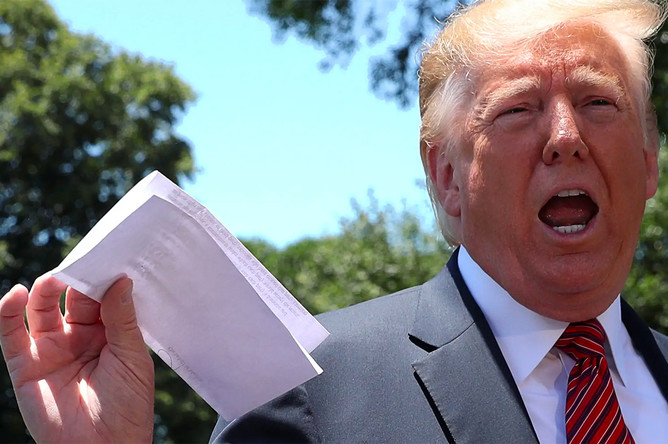Жизнь не столько подло, по Набокову, сколько карикатурно подражает художественному вымыслу. Лукино Висконти, 110-летие которого отмечается 2 ноября, как представитель старого аристократического рода всегда подолгу и беспощадно к съемочным группам работал над деталями пышных, как торт, интерьеров и пахнущих потом и пудрой костюмов. И ему было бы интересно показать гибель новых русских богов в обстоятельствах новорусской дворцово-парковой архитектуры, тем более что всем нам уже дали возможность заглянуть одним глазком в интерьеры коробок из-под долларов.
Да, эти интерьеры — карикатура. Этакое дизайн-бюро «Висконти». Но какой замах!
Чем наши русские современники — новое дворянство, офшорная аристократия (В. Сурков), crème de la Kreml (В. Радзивинович) — хуже или лучше висконтиевских героев.
Ничто человеческое, в том числе аморальное, им не чуждо. А тяга к упадническим интерьерам и аристократическим ландшафтам возникает автоматически с первым заработанным миллионом долларов. Сколько таких драм, подражающих Висконти, таят в себе Рублево-Успенское и Подушкинское шоссе, и не только они.
Мы живем в хаотическом и необъяснимом мире, смысл и содержание которого невозможно расшифровать километрами русских сериалов и тоннами легковесного ракушечника слов. Зато работают отлитые в граните формулы вроде черномырдинской, с майки, продающейся в Ельцин-центре в Екатеринбурге: «Никогда такого не было, и вот опять».
И это «опять» и в самом деле повторяется — как трагедия, как фарс, снова как трагедия, заново как фарс. И все это череда упадков семей и Семей — со строчных и прописных букв.
Упадок проистекает, как правило, и от неспособности приспособиться к новым обстоятельствам, и по причине попыток приспособиться к ним, что на самом деле одно и то же,
это показал в «Будденброках» столь любимый Лукино Висконти Томас Манн. «Конформизм» здесь ключевое слово. Жан-Луи Трентиньян одной своей ролью в «Конформисте» Бернардо Бертолуччи, работавшего вполне по-висконтиевски, показал модельную «гибель и сдачу» не отдельных людей, а целых социальных групп в условиях авторитарных режимов.
Политическим элитам во всех странах нужно каждый вечер показывать этот фильм, которому скоро сравняется полвека, чтобы пробуждать если не совесть, то страх перед самими собой.
И возможным своим концом.
Почти каждая картина «юбиляра» Висконти — о падении. Гениальный фильм «Гибель богов», он ведь, конечно, о нацистской Германии, которая, как показал режиссер, кончилась, едва начавшись (действие происходит в 1933-м), но и не только. Он модельный — о любом упадке и любой сдаче. О мотивах, оправданиях и отмазках. И коллективной ответственности.
Глава большого промышленно-финансового клана Иоахим фон Эссенбек прямо перед смертью, о наступлении которой он и не подозревает, сбивчиво оправдывается: «Вы должны признать, что я никогда не благоволил к этому режиму… Вы все знаете, что у меня никогда не было и никогда не будет никаких отношений с этими господами… Вместе с тем интересы завода… наша производственная деятельность вынуждают нас… поддерживать с этими людьми ежедневные контакты. Вот почему я ощущаю неизбежную необходимость иметь рядом человека, который этот режим приемлет, что могло бы гарантировать нам…»
От них, от их заводов, ведь требовалось только железо, ничего больше.
В синопсисе «Гибели богов» Никола Бадалукко, Энрико Медиоли (идея сценария, кстати, принадлежала ему) и сам Висконти настаивают на личной ответственности каждого немца за то, что произошло с Германией.
А потом Висконти уточнит: «Непротивление злу приводит к его абсолютизации».
В том числе непротивление внутри элит. Гибель и сдача в фильмах Висконти ведь происходит не в лачугах бедняков, а в рембрандтовских сумерках родовых замков.
Об ответственности — и «Семейный портрет в интерьере». С годами интерьеры у Висконти становились строже и лаконичнее, а «Семейный портрет…» уже можно было превратить в театральную постановку со скупыми декорациями. Если бы мастер не скончался, он бы снял еще более камерную драму — кино по «Волшебной горе» Манна, где действие фильма должно было разворачиваться исключительно в больничной палате. Там даже не было бы Давоса, как в «Портрете» почти нет Рима. Упадок и гибель требовали все меньше квадратных метров жилой площади.
В своей самонадеянности мы считаем наше время самым ужасным и непредсказуемым. Но это свойство любой эпохи.
Годами, десятилетиями, уже теперь чуть ли не веками происходят все эти хэллоуинские страшилки — «смена мирового порядка», «закат Европы», «сумерки Запада». А типажи и типы остаются прежними.
«Семейный портрет» снят в 1974-м, и это время казалось тем, кто внутри него жил, вовсе не лучше нашего: Италию тогда захлестнула волна черного и красного террора, неофашистский заговор представлялся вполне реальным — во всяком случае Висконти верил в его возможность. И в «Семейном портрете» режиссер предъявляет всех ответственных: от бывшего активиста мая 1968-го Конрада и его любовницы, жены затевающего неофашистский мятеж магната, до профессора, отгородившегося от жизни и «черствеющего в созерцании искусства». Бездействие, конформизм и бездумность — это, получается, тоже ответственность.
Висконти могли бы понравиться сценические обстоятельства нашего «Семейного портрета»: представим себе активиста Болотной 2011–2012 годов, перекинувшегося в противоположный политический лагерь, и бездетного старика, отключившего телевизор с поющими на одной высокой ноте прокремлевскими ток-шоу, но и не желающего ни во что вмешиваться: «Интеллектуалы моего поколения считали, что нужно как-то уравновесить политику и нравственность. Тщетно». И никто ни за что не отвечает, даже в бытовом смысле, потому что один из персонажей — «собачонка госпожи», а другой живет наедине с conversation piece, коллекцией семейных портретов, не имея семьи и детей, за которых мог бы быть в ответе.
У Висконти профессор эту семью обретает и немедленно теряет, когда Конрада сначала калечат, а затем убивают за то, что он выдал властям участников заговора. Снова распад того, что едва начало оживать.
После гибели Конрада и предсмертной записки с подписью «твой сын» профессору остается лишь ожидание собственной кончины — сам Висконти говорил, что он рассказывал эти истории «как реквием».
В том числе и по самому себе — после премьеры «Портрета» режиссеру оставалось жить меньше двух лет.
Его грандиозный панорамный «Леопард», такой расточительный в изобразительных средствах и потому столь непохожий на «Семейный портрет», в сущности, та же семейная сага со смертью главного героя и коллективным сбором всей семьи; в «Леопарде» — на легендарном висконтиевском балу.
Там же можно найти и главный политический рецепт — на этот раз успешного конформизма. Для тех, разумеется, у кого хватает не только гибкости позвоночника, но и ума ему следовать. Например, аристократу иногда полезно повоевать в отрядах Гарибальди, чтобы потом примкнуть к новым хозяевам. Герой Алена Делона Танкреди Фальконери, лишенный демонизма, но не прагматизма, произносит главное:
«Если мы хотим, чтобы все осталось как есть, нужно, чтобы все изменилось».
Кажется, интуитивно это понимал даже Черномырдин со своим «никогда такого не было…». Закон Танкреди Фальконери еще не выучен нынешней госкапиталистической аристократией — возглавить изменения, чтобы сохранить свои позиции, им мешает порождающее счастливую слепоту и глухоту самодовольство. Но уроки распада от Висконти еще никто не отменял, и, если помнить о них, есть шанс не стать актерами в пародии на гибель висконтиевских богов.

 Цивилизация
Цивилизация