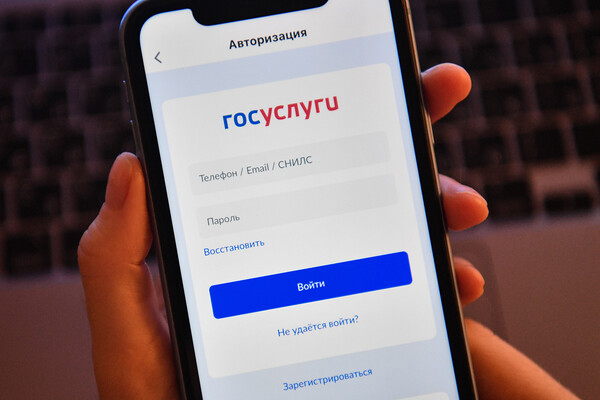Прошло почти четыре года с того момента, как Путин заявил о своем неизбежном возвращении в Кремль. Полтора года — со дня присоединения Крыма. Девять месяцев — с момента первой серьзной экономической дестабилизации. Однако сегодня о близости перемен и слабости режима говорят только те самые люди, которые пытались убедить нас в том же и десять, и пять лет тому назад.
Перемен же как не было, так и нет. Даже вектор развития сменился с обнадеживающего на нисходящий, но ситуация выглядит куда стабильнее, чем в любой год из последних 15. Почему же в России необходимо мечтать о переменах, но ждать их не следует? На этот вопрос можно дать довольно аргументированный ответ.
Перемены в общественной жизни бывают двух видов: эволюционные, постепенные (как правило, мирные), и революционные, неожиданные (и обычно довольно жестокие).
Эволюционные перемены в России невозможны по двум причинам.
Прежде всего потому, что для них необходима определенная культура поведения масс — тех частей общества, которые обычно называют меньшинством и большинством. Элементарная логика требует, что для нормального демократического процесса эти части общества должны быть подвижными, и в зависимости от ситуации меньшинство может становиться большинством, и наоборот.
Общества, в которых данный процесс невозможен (например, такие, в котором принадлежность к каждой из групп определяется этнической, национальной или религиозной идентичностью), как правило, не бывают ни демократическими, ни даже успешными.
Россия в этом отношении — особая страна. Как бывшая империя, она сохранила определенную толерантность, и националистические партии здесь не слишком популярны. Как коммунистическое общество, она относительно индифферентна к религии, и последняя скорее насаждается властью, чем имеет глубокие корни.
Вроде бы ничто не мешает нам быть нормальной политической нацией — кроме нашей истории.
История России предполагает жесткую постановку вопроса «свой – чужой», «с нами или против нас». Любое меньшинство никогда не рассматривалось здесь как носитель ценного и уважаемого мнения, но всегда воспринималось как сообщество отщепенцев и предателей.
Были ли по-настоящему опасны для советской власти демократы-шестидесятники? Думаю, если бы в партии прислушались тогда к их скромным пожеланиям, СССР мог бы просуществовать еще не одно десятилетие, осененный теми же идеями социальной справедливости и борьбы за мир. Но система превратила это меньшинство в «диссидентов» и выбросило их из жизни общества.
Так и сегодня, инкорпорируй элита своих самых непримиримых критиков в среднего уровня властные структуры, они стали бы самыми активными ее сторонниками (не будем повторять всем известные примеры) — но она числит их «пятой колонной» и «иностранными агентами». Значит, меньшинству никогда не стать большинством, а эволюционным переменам — не случиться.
Кроме того, для постепенных перемен нужно гражданское общество, а оно возникает там, где есть основания для социального действия. Плотная ткань общественного организма — основа медленных перемен. В современной же России власть пошла по иному пути — по пути максимальной индивидуализации людей. К этому ее подталкивают два фактора: желание удержаться как можно дольше и невероятное пристрастие к коррупции.
Россия — это общество, в котором многого можно достичь в одиночку, но ничего — коллективно.
Сама идея русского закона, «строгость которого компенсируется необязательностью выполнения», указывает именно на это. Можно договориться об особом отношении к тому или иному бизнес-проекту, откупиться от службы в армии, незаконно перепланировать квартиру и т.д. — так можно сделать практически все. Но расширить права бизнеса массовой акцией, улучшить условия труда забастовкой, добиться пикетами новых законов — все это остается невозможным. Потому что массовое действие девальвирует взятку, а она была, есть и будет основой современной российской системы.
В таких условиях оказывается, что индивидуальное (и в том числе коррупционное) действие всегда более эффективно, чем коллективное. И это не вопрос морали или права, это вопрос экономики. Только оставаясь с системой один на один, вы можете получить от нее то, чего никогда не добьетесь, выйдя на площадь.
Индивидуалистическое же общество не способно к конструктивному оппонированию властям: от его членов можно ждать лишь бегства или бунта.
Первое мы сегодня видим отчетливо: эмиграция из России уже превышает показатели самых тяжелых постперестроечных лет, и наивно предположить, что она будет сокращаться (хотя комфортность отъезда будет снижаться по мере нарастания экономического кризиса в стране). «Имитация» выборов и даже самих социальных движений вскоре окончательно девальвирует большинство общественных инициатив, а умирание гражданского общества окончательно «отменит» любые эволюционные шансы.
Революционный слом системы сегодня тоже крайне маловероятен.
С одной стороны, потому что революция — это, что ни говори, удел относительно бедных стран (я в данном случае не говорю о событиях, которые в той или иной мере были связаны с национально-освободительными движениями). Сегодня с нашей «колокольни» даже сложно представить себе уровень жизни тех, кто участвовал в революционных войнах во Франции, выходил в Европе на баррикады 1848 года и даже боролся за установление советской власти.
Еще сложнее осознать, насколько малой была в то время ценность человеческой жизни и насколько легко провоцировалось насилие. В конце ХХ – начале XXI века революционное движение явно сместилось «на периферию» тогдашнего мира и, собственно, там и умерло. Даже если мы обратим внимание на «революции» 2010-х годов — в Тунисе, Египте, Ливии и даже на Украине — то увидим, что они происходили в странах с подушевым ВВП в $4–7 тыс.
Часто можно слышать о том, что, если страна достигает уровня, соответствующего ВВП в $12–15 тыс. на человека в год, в ней, как правило, устанавливается демократический режим. Эта формула относительно условна, но зато более очевидно другое: в таких странах не случаются революции.
Население слишком ценит достигнутый уровень жизни, чтобы решаться на бунт.
С другой стороны, революции все-таки редко бывают чисто политическими — для них необходимы серьезные социальные силы, заинтересованные в переменах. В той же Франции конца XVIII века уже существовала буржуазная экономика, и требовалось лишь уничтожить праздный класс задержавшихся у власти феодалов. В России начала ХХ века все было не так очевидно, но и там расклад передовых и реакционных сил был ясен.
Сегодня приходится констатировать, что у противников нынешнего режима вообще отсутствует какая бы то ни было экономическая база. Все состояния и бизнесы созданы либо на нефти, либо на обслуживании бюджетных потоков, либо на деятельности, прямо зависящей от госрасходов или поступающих в страну нефтедолларов.
В России начала XXI века вообще нет того «передового» класса, который мог бы стремиться к революции в надежде выступить ее бенефициаром, — речь может идти только о внутриэлитных разборках, но даже нынешняя элита достаточно дееспособна, чтобы найти варианты компромисса, если в ее среде вызреют достаточно серьезные конфликты. Россия обращена сегодня в прошлое — причем на этот счет существует всеобъемлющий консенсус, а это значит, что не только революции не случится, но и серьезных предпосылок для нее нет.
Поэтому если задумываться о перспективах современной России и о том, на какие страны она может быть похожа, я бы вспомнил прежде всего Латинскую Америку — Аргентину, Венесуэлу, может быть, Перу. Эти страны в свое время пережили крайне благоприятные времена: Венесуэла и Аргентина в разные периоды XIX века были самыми богатыми странами континента, а перед Первой мировой войной Аргентина даже занимала 7-ю строчку в мировой экономической «табели о рангах».
Все эти страны благоволили «сильной власти» и мало задумывались о ценностях демократии; во всех на протяжении большей части истории процветали коррупция, местничество и бюрократический образ правления. Они постоянно вступали в локальные конфликты, чувствуя себя обиженными вследствие отторжения у них тех или иных территорий.
«Постфолклендский» комплекс Аргентины России в полной мере придется пережить после серии экономических кризисов, периода международной изоляции и неизбежной потери Крыма.
Популизм венесуэльского «розлива» у нас и сейчас присутствует в достатке. Все эти страны объединяет общий путь — путь медленного экономического умирания. Самый высокий показатель подушевого ВВП в Венесуэле был, согласно данным ООН, зафиксирован в 1977 году, в Аргентине — в 1974-м. Подчеркну: самый высокий не в относительных, а в абсолютных величинах. С тех пор граждане стали жить не «ненамного более лучше», а просто хуже.
В России, я думаю, мы прошли (ровно сто лет спустя) свой 13-й год, и сейчас система клонится к упадку. Однако к такому, из которого нет выхода ни по сценарию российского 1917 года, ни по сценарию медленной демократической эволюции.
Чтобы понять наше будущее, советую обращать внимание на новости из Буэнос-Айреса и Каракаса: конец этих стран будет похож на то, что ожидает нас. Но ни там, ни тут он не случится скоро.

 Цивилизация
Цивилизация