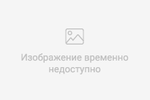На автопортрете 1973 года Эрик Булатов в черной рубахе и с зияющей дырой на переносице стоит у стены. Позади него бежит надпись «Входа нет». На автопортрете 2011 года он уже вписан в раму, как Мадонны у мастеров эпохи Возрождения. За спиной Булатова небосвод, в руках кисти: художник зарисовывает зрителя.
Широкоформатные картины Эрика Булатова традиционно помещают на одну полку с работами пионеров соц-арта и московских концептуалистов. Его наравне с Ильей Кабаковым называют автором, транслирующим русское искусство за рубеж. Однако живущий преимущественно во Франции 81-летний Булатов считает, что запихать его работы в одно-единственное направление невозможно — «слишком многое придется ампутировать».
В подтверждении статуса живого классика и дополнительном «брендинге» он давно не нуждается, да и выставка не об этом.
Последний раз Булатов выставлялся в России в 2006 году: ретроспективу художника делала Третьяковская галерея. Манежная выставка «Живу — вижу» вышла не энциклопедией, а обобщением, выборкой главного.
Сюда свезли почти сто живописных работ и около пятидесяти эскизов из семнадцати музеев и частных коллекций. Среди них есть и несколько картин последних восьми лет, которые никогда не выставлялись в России: например, свежий автопортрет и полотно «Картина и зрители» — парафраз «Явления Христа народу» Александра Иванова с подрисованными внизу толкающимися зрителями, на встречу к которым и движется Христос.
В СССР Булатов слыл практически политическим памфлетистом от живописи, потешающимся над советской символикой. Однако антисоветчина на уровне содержания не единственное, что его занимало.
Булатов препарировал советскую риторику, ее идиомы и лозунги. Расковыривая идеологию, пробираясь к ее структуре, он сам создавал иконы.
В начале 1970-х, например, появляется картина «Горизонт» — идиллическое изображение, выхваченное из советской открытки. Путь к морю праздно прогуливающимся обывателям преграждает вспоровшая и разрубившая полотно пополам ленточка ордена Ленина. Подменяя собой линию горизонта, становясь рубежом, перед которым в нерешительности мнутся и герои картины, и зрители, и автор, она отменяет все остальное.
Картина — единственный формат, в котором работает Булатов, — воспринимается им как вызов. Он взламывает ее границы, проверяет на прочность, городит отвлекающие внимание рамы из слов, распластавшихся по полотну букв, решеток.
Выставка в «Манеже», по сути, представляет собой исследование формата, деструктивную и многослойную визуальную диссертацию Булатова.
Зритель здесь бредет от натюрмортов и пейзажей начала 1960-х — реверансов в адрес живописца Роберта Фалька, — к предельному минимализму, геометрии и далее — к гиперреализму и плакату. Это путь от живописи к картине — к ее программному коду, который Булатов силится взломать.
Установить родство между работами, правда, удается с трудом — так бывают непохожи разбросанные по миру троюродные братья, давно говорящие на разных языках. «Советский космос» 1975 года (парадный портрет Брежнева, вокруг которого, как планеты, вращаются флаги советских республик) и минималистичные «Горизонталь» и «Вертикаль», кажется, существуют в параллельных пространствах.
К обособленному смотрению и отчуждению картин друг от друга располагает и архитектура выставки: если не у каждой работы, то у каждой серии — свой закуток.
Булатов не вступает в диалог с картиной. Он взаимодействует с ней, как Франкенштейн с чудищем: доклеивая детальки, внедряя новые механизмы.
Живопись Булатова — это книга, написанная ради слов, а не ради смысла.
Иногда это рисунок простым карандашом по холсту («Вот»), иногда полный отказ от живописи («Входа нет»), пародия на советский плакат («Добро пожаловать») или прорисованная ниточкой света дверь в черном квадрате («Дверь»). Одна из новых работ Булатова — «Московское утро» 2014 года в подтертом карандаше существует и вовсе на грани с беспредметностью и напоминает то ли «Белое на белом» Малевича, то ли «Стертый рисунок Де Кунинга» концептуалиста Роберта Раушенберга, который выставил в 1953 году пустой холст, бывший когда-то картиной абстрактного экспрессиониста Виллема де Кунинга.
При этой верности формату классической картины Булатов все равно играет в медиаэффекты:
его рама из растерявших свое значение слов работает так же, как экран телевизора, а навязчивые надписи — как всплывающие окошки.
Выяснять отношения между словом и образом Булатов начал в 1970-е, цитируя в своих работах преимущественно поэта лианозовской школы Всеволода Некрасова. Одна из таких картин-цитат «Живу — вижу» и дала название выставке. Булатов счищает смысловой слой со слова, оставляя от него только лишь визуальный образ. Такой текст не переходит в речь, остается скелетом — как, например, в случае с картиной «Откуда я знаю куда». Игра в слова заменяется на постоянное пристальное наблюдение за собой, на самокритику, которая уже заключена в произведении, — из этого сегодня и состоит Булатов.

 Цивилизация
Цивилизация