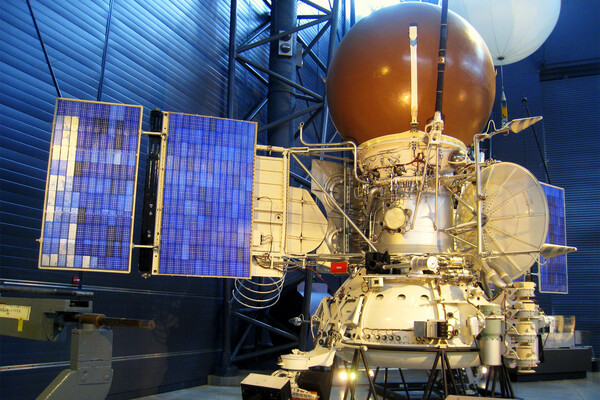Спектакль Юрия Муравицкого, ненавязчиво и динамично набрасывающий очертания вполне удобоваримого ада, в который превращается любая стандартная семья, стал первой ласточкой арт-резиденции Blackbox при Центре им. Вс. Мейерхольда. В рамках лаборатории молодые режиссеры, художники, драматурги экспериментируют с театральным пространством, зрительским восприятием, пониманием сценического текста.
Постановка, уже в своем названии фиксирующая процесс развала и распада кое-как собранной в целое образцовой ячейки общества, выстроен на неочевидных взаимоотношениях текста, картинки и звука. Стеклянная, в форме трапеции, коробка на сцене — что-то вроде студии звукозаписи: с торца и по бокам расположены три окошка, за которыми люди с микрофонами и листочками бумаги озвучивают происходящее внутри (Светлана Михалищева, Михаил Ефимов, Наталья Терешкова).
Внутри, в пространстве небольшого, довольно тесного аквариума (художник Екатерина Щеглова) существует семья: мама, папа, бабушка, дочка и сын. Их среда обитания — набор безликой, типичной мебели, одни предметы которой (как, например, торшер) вполне современные, стильные, европейские, а другие прилетели из убогого советского застойного быта — например, раздвижной обеденный стол на хлипких ножках.
В углу — новенький пылесос, в руках у сына — старая советская энциклопедия, тяжелый обтрепанный красный кирпич с серпом и молотом на обложке.
Здесь нет укорененности ни в пространстве, ни во времени, как и в французском тексте Фабьен Ивер, адаптированном драматургом Екатериной Бондаренко: имена Рембо и Кено уживаются рядом с названиями любимых советско-российским народом передач «Что? Где? Когда?» и «Поле чудес». История распада семьи, дискредитации самого института здесь не оправдывается конкретными обстоятельствами общественной жизни: спектакль фиксирует кризис одного из основных столпов цивилизации как общепланетный факт, как данность.
Некая усредненность персонажей закреплена во всех внешних признаках: в аккуратных усиках папы (Григорий Калинин), в красной бейсболке и шортах сына-подростка (Артем Семакин), в тугих, тщательно расчесанных хвостиках девочки в красном платье (Сесиль Плеже), в ее больших, почти никогда не снимаемых наушниках.
Персонажи, превращенные в функции, складываются в схему, в мрачноватый примитивистский комикс, где действия и эмоции, доведенные до рефлекса, лишь обозначены, лишены индивидуальности.
Часы на стене показывают начало одиннадцатого — не ранним утром семья собралась для того, чтобы сделать фотографию. Целый хлопотный ритуал: папа устанавливает по центру старинный аппарат на треноге. Семья усаживается на диван:
мама снимает с сына кепку, тот строит рожки сестре, отец стаскивает с нее наушники, мать кладет руку на коленку полумаразматической, пытающейся уйти бабушке.
Натужные, застывшие улыбки взрослых, мрачные взгляды насупившихся детей неестественно вычерчиваются светом резкой вспышки. Прелюдия, разворачивающаяся в полной тишине, задает стилистику всех трех частей спектакля, обозначенных в названии. В ситуациях, разыгрываемых на сцене, нет исключительности и радикализма: пугающая неестественность отношений рождается именно из обыденности, из будничности.
Вся визуальная сторона спектакля – цепь отдельных этюдов (хореограф – Анна Абалихина), рожденных из ассоциаций с текстом, который не предлагает сюжета или характеров, не конструирует драматургическую ситуацию, но плотно закручивается вокруг детского недоумения.
Текст Фабьен Ивер – это поток сознания, парадоксальная маниакальная мантра, замаскированная под дневник девочки-подростка.
«Почему папа уходит?», «Чего папа хочет?», «Почему мама врет?» — совсем мало вопросов, вокруг которых тугой спиралью заверчены ответы и предположения – одно абсурднее другого. Нет причинно-следственных связей, нет логики – реальность не дает ни ответа, ни утешения.
Собственно, не так уж и важно – уходит ли папа, потому что мама плохо готовит, или потому, что решил стать четвертым мушкетером в четверке из романа Дюма.
Он все равно уходит. Варианты развития событий множатся и множатся – сознание панически мечется в попытках найти объяснение, но так и не может переварить сам факт, саму фатальность неблагополучия и фальши.
Текст Ивер невозможно проиллюстрировать, и спектакль к этому не стремится: иногда вдруг картинка приближается к описываемой бесстрастными голосами ситуации, иногда, наоборот, выстраивается на контрапункте.
Папа, в общем-то, никуда не уходит, но его бледное, освещенное синеватым светом телевизора лицо фиксирует его отсутствие в этом безвоздушном пространстве.
Текст, позволяющий себе лишь обрывочные, сделанные в телеграфном стиле сюжетные микровкрапления, держит дистанцию по отношению к визуальному ряду. Этот зазор то увеличивается, то сокращается, заставляя зрителя следить за меняющимися связями, буквами и картинками. Мама из французского текста плачет в ванной и превращается в роденовского мыслителя – мама (Светлана Камынина) в спектакле Муравицкого остервенело полирует мебель тряпкой, механически поднимает носки за равнодушным сыном и мандариновые корки за бабушкой, превратившейся в часть интерьера.
Текст в своей мнимой неподвижности постепенно меняет свою природу – констатация факта в первой части сменяется короткими подобиями диалогов во второй, а в третьей, про бабушку, вдруг появляется какая-то горечь, взламывающая жесткую, безэмоциональную конструкцию. Меняется и визуальный сюжет спектакля – ироничные деловитые сценки обычного утра или дня уступают место макабрическим зарисовкам:
невозмутимые родственники в веселых бумажных колпачках на резинках, только что после семейного праздника, запихивают упирающуюся бабушку (Дмитрий Аросьев) в деревянный гроб.
А незадолго до смерти бабушка расставляет по столу старые фотографии из жестяной коробки и кормит заглянувшего к ней Иисуса чем-то из кастрюльки.
Непрерывная ткань спектакля, в котором, помимо текстового и визуального, есть еще и сложный музыкальный сюжет (от выхолощенного электронного примитива через меланхоличный аккордеон к разнообразно организованной какофонии и разладу – композитор Елена Кауфман), иногда разрывается оглушительными паузами и световыми контрастами.
Аккуратно выдавленный из семейного круга папа вдруг покидает стеклянный аквариум – один только раз, но по-настоящему. Он оказывается снаружи, на авансцене — равнодушно-свободный, папа обстоятельно ест банан, глядя на прильнувших с той стороны родственников.
И на каждом из них, даже на сумасшедшем котике на колесиках, похожем на знаменитого упоротого лиса, — бумажная маска с лицом матери, требовательным и напряженным.
Спектакль закольцовывается к финалу, обозначая сужающийся круг семейного, нестрашного, всех смиряющего ада – радиорубки уже пусты, текст дочитан, а в безликой квартире начинается новый день, и сомнительно родные люди снова снуют от двери к двери, повторяя привычные траектории.

 Цивилизация
Цивилизация