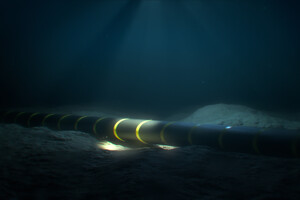Намерение Женовача ставить «Москву--Петушки» одних повергло в шок, других – в восторг, но всех в равной степени удивило. «Студия театрального искусства» (СТИ) с момента своего создания занималась только классикой, выпуская спектакли демонстративно старомодные и традиционные; актеры всегда ходили в элегантных костюмах под XIX век (за исключением «Реки Потудань» по Андрею Платонову), изъяснялись красивым языком и обживали стильные декорации Александра Боровского.
От дня сегодняшнего спектакли СТИ как будто отделяет непроницаемая стена, и этот театр кажется принадлежащим прошлым столетиям больше, чем нынешнему. Когда аскетический и суховатый язык Студии был в новинку, все им восхищались, вокруг Сергея Женовача, а затем и его театра быстро вырос целый культ театроведов и просвещенных театралов. Однако постепенно от этого сочетания сухости со старомодностью в его спектаклях стали уставать. Каждая следующая работа студии оказывалась похожа на предыдущую, одни и те же актеры выходили в почти неотличимых друг от друга ролях, оставались незыблемы и смыслы:
любите своих ближних, живите по правде, не грешите, и будет вам счастие.
В итоге теперь даже самые истовые поклонники театра начали признавать, что он приближается к кризису, и дальнейшее движение в избранном направлении ничего хорошего не сулит. Поэтому решение ставить Ерофеева вполне объяснимо: кажется, режиссер сам почувствовал, что СТИ необходима встряска. Женовач лишь во второй раз в жизни поставил спектакль, действие которого происходит позже середины XX века, и вообще впервые обратился к произведению, где звучит ненормативная лексика. Результат получился сложным и неоднозначным – и все же это смелая и осознанная попытка режиссера измениться. Теперь к Женовачу можно предъявлять разные претензии,
но никто уже не посмеет сказать, что его театр стоит на месте и закрыт для всего нового.
Когда спектакль начинается, зрителям вообще сложно поверить, что они пришли в «Студию театрального искусства». Кирпичные стены по периметру площадки на этот раз вдруг выкрашены в «кремлевский» цвет, а сцена скрывается за ярко-красным бархатистым занавесом а-ля советский ДК. В зале же свисает с потолка гигантская люстра, сделанная совсем не из хрусталя, а из пустых бутылок известного происхождения. При ее свете Веничка (Алексей Вертков), в бабочке и пиджаке похожий на конферансье, внезапно появляется между рядов, оказываясь как бы одним из нас.
Сжимая в руке чемодан, он окидывает хмурым взглядом зрителей и начинает изобличать всех и вся: люстру (может упасть на голову), Кремль (до него никак не дойти), херес (нигде его с утра не купишь). На первый взгляд ерофеевский герой кажется у Женовача нытиком-неврастеником, жалующимся на жизнь и враждебно воспринимающим мир.
Зрители его пугаются и безропотно подчиняются, когда он требует, чтобы все встали и почтили минутой молчания два безалкогольных часа.
Впрочем, лед довольно быстро тает, и Веничка преображается в весельчака-балагура, дружащего с залом и сыплющего хлесткими репризами с авансцены. Вертков легко завоевывает расположение зрителей, существуя с ними наравне. Неудивительно, что, когда его герой дает рецепты коктейлей (на каждом кресле лежат листочки с карандашами для желающих записать их), анонимный коллега-алкоголик из задних рядов кричит ему: «Не спешите, пожалуйста!», дабы не упустить деталей. Кстати,
в интернете спектаклю предпослано «видеоприглашение», на котором Веничка дает целый мастер-класс по приготовлению хитроумных сочетаний одеколонов и прочих алкосодержащих продуктов, смешивая их прямо на глазах и в итоге почти теряя здравый ум с трезвой памятью.
Такой ролик – еще один ход, для СТИ неожиданный и беспрецедентный.
Самоирония Женовача в «Москве--Петушках» достигает порой космических размеров. Так, сопутствующие Веничке ангелы Господни здесь – две милые кудрявые девушки, которые выбегают ему навстречу из зала. Вроде бы вполне привычные такие ангелочки – да только вместо крыльев у них фирменные белые комбинезоны с большими надписями «СТИ».
Женовач высмеивает сразу и те нежно-слащавые образы, с которыми у многих ассоциируется его театр, и популярное мнение о чуть ли не мессианской роли его труппы.
Оказывается, что единственное спасение, которое могут дать небесные посланницы в спектакле режиссера-моралиста, – это подсчитать, сколько героем было потрачено на вожделенные бутылки.
Кульминация первого действия – эпизод до сих пор небывалой в СТИ эротической силы.
Девушка-баллада Марии Курденевич, вся в белом, кормит Веничку с рук малосольными огурцами, а затем обвивает его голыми ногами, ухитряясь движениями ступней гладить его по голове, трепать по подбородку и даже дать едва ощутимую пощечину.
Они садятся друг против друга, сплетают ноги – и со сцены веет такой мощной молодой энергией, какую в спектаклях этого театра едва ли можно было ощутить со времён того, как его актеры перестали быть студентами. Приученные своим мэтром сдерживать эмоции и даже в самые веселые моменты сохранять серьезность, впервые за долгое время они получили возможность раскрепоститься.
К сожалению, этого настроя не хватает на весь спектакль — в начале второго акта постановка начинает провисать. Веничка, уже никак не меняющийся, уходит в тень, когда вступает в диалоги с другими героями — а они здесь оказываются слишком блеклыми, чтобы привлечь внимание. Женовач, раньше во всех работах студии делавший ставку на сплоченный ансамбль, впервые полностью выстраивает действие вокруг одного актера – и остальные неизбежно теряются на его фоне.
Но это не единственная проблема. После долгого перерыва Женовач наконец пытается говорить на современном языке – и пользуется средствами, которые избирали для этой цели лет пятнадцать назад, потому что другими он пока не владеет. Когда одна очень заезженная мелодия, хоть и в интересной аранжировке, звучит в первый раз, думаешь, что это шутка; когда же она повторяется и в трагический момент, выясняется – все-таки нет. Когда актер пятый раз подряд появляется из зрительного зала, это начинает надоедать. Веничка надолго уходит на авансцену читать монологи – и его собеседники остаются сидеть без движения 5, 10, 15 минут. Ритм ломается, и даже прекрасный текст не спасает.
Главная же беда приключается с финалом. Вертков, актер страстный, резкий и нервный, с чуть сухощавым лицом и глазами обездоленного мечтателя, вроде бы идеально подходит на роль Венички. Но в выстроенной спектаклем системе координат он не успевает развернуться;
у героя просто нет возможности вырасти до ерофеевского масштаба, из несчастного забулдыги стать поэтом, сотворившим собственную планету.
Поэтому в конце перепад из веселья в отчаянье слишком резок и непонятен. Когда гаснет свет и голос Венички раздается из темноты под тревожное дребезжание люстры, ужас возникает скорее физический, чем метафизический. Затем нагнетается морок, взмывает висящий сзади белый кружевной занавес, и за ним обнаруживается грозная кремлевская стена. В красном свете толпятся перед ней актеры, снова и снова звучат куранты, беспорядочно отсчитывая остановившееся время. Веничка, уже убитый, в последний раз выходит вперед и говорит зрителям свои слова, сдавленно и потерянно. И хотя мизансцена сочинена лихо, из всего ей предшествующего она никак не вытекает.
Похожие несоответствия были и в прошлом спектакле Женовача, «Брате Иване Федоровиче».
Возникает ощущение, что лучшие актеры студии уже переросли его постановки, стремящиеся к школьной простоте смыслов.
Они попадают в положение ребят, которые уже закончили институт, а их упорно продолжают каждый день водить в одиннадцатый класс. В «Москве--Петушках» некоторые из них получили новую степень актерской свободы. Но чтобы двигаться дальше, Женовачу необходимо больше глубины и нужна способность говорить на языке, адекватном времени, и речь совсем не о голых ногах или видеоарте.
«Москва--Петушки» вполне может провалиться – и среди зрителей, и среди критиков. Для некоторых фанатов «Студии театрального искусства» спектакль покажется чересчур радикальным и расстроит отходом от давно заявленных Женовачом принципов. Для тех же, кто ратует за современный театр, он будет выглядеть устаревшим. В такой ситуации важно, чтобы театр и его руководитель не испугались, остановившись на полпути какой-то новой дороги, которую они вместе явно нащупали.

 Цивилизация
Цивилизация