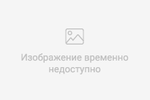Махмуд живет в бедном районе Назлет Эль-Самман (дословно «перепелиный склон»), находящемся рядом с пирамидами. К ним возили туристов ещё его отец и дед, но теперь все находится в запустении: между поселением и пирамидами правительство установило 16-километровую стену. Эмансипированная Рим, сотрудница рекламного агентства, живет в модно обставленной квартире, любит Дэвида Линча и верит в необходимость революции. А Махмуд и его друзья-бедуины участвовали в так называемой верблюжьей битве — въехали в митингующую мирную толпу на верблюдах и лошадях и спровоцировали кровавую драку. Теперь он стал изгоем, сына травят в школе из-за поступка отца, лошадь помирает от голода. Рим и Махмуд случайно знакомятся, между ними завязывается странная дружба.
«После битвы» снималось посреди настоящих митингов и протестов и запечатлело энергию творящейся на глазах людей истории. Среди актеров множество непрофессионалов: в частности, жителей района, в котором происходит действие, играют его реальные обитатели. Режиссёр рассказал «Газете.Ru» о том, как произошла революция, каким образом найти общий язык не понимающим друг друга людям и в чем заключается стратегия политических диктатур.
— Представляя «После битвы», вы упомянули, что источником вдохновения для вас послужили послевоенные фильмы Роберто Росселлини. Что в них для вас самое важное? Идеалистическая вера в возможности кино преобразить окружающий мир?
— Если не углубляться в теорию, то я скажу, что считаю Росселлини большим поэтом. Он снимал о тех событиях, которые происходили прямо у него на глазах, непосредственно после войны. Он представлял проигравшую сторону — народ, только что потерпевший моральное поражение (в Германии это начало происходить гораздо позже). Я недавно смотрел замечательный фильм «Крысы» Роберта Сьодмака. В то время всех режиссеров и писателей занимала эта тема – возрождения души народа, его поруганной чести. Мне кажется, кино неизбежно запечатлевает историю в настоящем времени. Когда я рассказывал о своем замысле, мне говорили и дома, и во Франции: не рановато ли? Результатов-то пока нет. Но я ждать результатов не хотел. Просто я не мог снимать фильм ни о чем другом, кроме того, что занимало мои мысли в тот момент.
— Кто, по-вашему, начал революцию в Египте?
— Злобные заговорщики! (смеется) Я не знаю.
— И все-таки: чего не хватало людям? Демократических свобод, экономической стабильности?..
— И того, и другого, и много чего еще. Чтобы понять, почему произошла революция, нужно для начала уяснить, что факторов было много. Был диктатор Мубарак и его насквозь коррумпированный режим. Бедные становились всё беднее, а богатые богатели до неприличия. Если отойти от базовых потребностей, то да — люди хотели демократии. К тому же действия полиции уже переходили все границы: она вела себя безумно жестоко.
Результаты последних парламентских выборов были чудовищно фальсифицированы: Национал-демократическая партия победила с 99,9% голосов. Настоящий Советский Союз. Всё это копилось годами: равнодушие власти, ее несостоятельность, ее жестокость, порой доходящая до откровенных провокаций. Когда оппозиция сформировала свой параллельный парламент, Мубарак сказал всего два слова: «Пускай веселятся». Ну что ж, мы и повеселились.
События на Тахрире были очень спонтанными. В первый день, 25 января, никто и подумать не мог, сколько людей вскоре придет на площадь. Все думали, что это будет рядовая демонстрация – сотня митингующих и десять тысяч полицейских. Вышло иначе. С каждым днем приходило все больше и больше людей — для всех это стало сюрпризом.
— Ключевой образ вашего фильма – возведенная властями стена, не позволяющая жителям подходить к пирамидам. Это вообще становится лейтмотивом картины: между героями существует стена, между прошлым и настоящим, между их устремлениями (один стремится к стабильности, другая – к революции). Она может быть разрушена?
— Рано или поздно стена падет. Но я не знаю, поможет ли это людям или их попросту выгонят оттуда, из-под пирамид, и построят на том месте гостиницы. Когда я начал задумываться о визуальном решении картины, то понял, что пирамиды нужно снимать только за стеной. Единственный раз, когда стены нет, ее заменяет другая стена – из света. Диктатура обычно именно этим и занята: она возводит стены между разными религиями, классами, нациями. По-моему, самым важным событием за последние годы, еще до прихода Мубарака, стало уничтожение национального египетского самосознания. Прежде всего ты должен быть арабом, мусульманином или христианином; о тебе судят по твоей классовой принадлежности, по городу, где ты родился, по твоему клану. Разделяй и властвуй. Некоторые исламисты провозглашают новый интернационализм: дескать, мусульманин из Малайзии мне должен быть ближе, чем христианин из Египта. Связь между людьми, таким образом, рвется.
— И когда это началось? Так же было не всегда?
— В XIX веке понятие «египтянин» не было пустым звуком, оно постоянно менялось и обогащалось. И так продолжалось до середины 1950-х. Я ни в коем случае не националист и не фанатик, но для меня воплощением диктатуры является именно это – идеи, идущие вразрез с ценностями местного населения и идеей демократии. Заслонять пирамиды стенами мне кажется святотатством. Ведь какой образ первым приходит на ум при слове Египет? Пирамиды.
— «После битвы» в некоторых деталях в точности совпадает с тем, что происходит в России. Например, недоверие друг к другу представителей социальных страт. Девушку Рим называют пособницей США и агентом сионистских сил; в свою очередь, её друзья не могут понять, зачем она общается с дрессировщиками скота – ведь они «дикари». В России тоже есть либеральные колумнисты, которые простых людей называют «анчоусами». Как все-таки начать диалог между разобщенными людьми?
— Чтобы дискуссия состоялась, нужно желание ее провести. Нужно начать диалог и дальше уже следить за развитием событий. Все споры в «После битвы» настоящие — они не были прописаны в сценарии. У меня часто возникало ощущение, что это не дискуссии, а просто обмен... жалобами. Ничего страшного, конечно: сначала люди жалуются, потом у них завязывается полноценная беседа.
— В Египте сохраняется серьезное расслоение. Возможно ли взаимопроникновение классов?
— А оно уже состоялось. Кто-то потом вернулся к своей прослойке, кто-то – нет, но на площади Тахрир все были равны – женщины, мужчины, с бородами и без. Там царила настоящая эйфория. Многие люди тоскуют по этому чувству близости, солидарности. Оказалось, что разобщенный народ Египта может сплотиться, что у него есть потенциал. Во время революции люди, которых раньше разделяли социальные барьеры, стали друзьями. Мою героиню Рим, увидевшую совсем не похожих на себя людей, все равно тянет к ним, тянет к наезднику Махмуду.
— Вы всегда показываете сильных женщин. В «После битвы» мужчины охотнее идут на компромиссы, не так уверены в себе.
— Но дело в том, что женщины действительно сильны, и если ты хочешь снимать кино о живых людях, а не супергероях, то должен это учитывать. Я не считаю Махмуда трусом. Его беда в том, что он живет в обществе, которое постоянно твердит ему: ты не несешь ответственности за свои поступки. А когда начинается демократическая революция, важно помнить, что ты уже не просто жертва — ты несешь ответственность. Во всех моих фильмах всегда присутствует личность, которая выносит на себе груз истории, личность, на которую давит Большое Событие. «После битвы» кажется мне очень трогательным фильмом, а Махмуд – самым интересным моим персонажем. Потому что он утратил чувство собственного достоинства, а теперь пытается заново его заполучить.
— Вы считаете, что революция кончилась?
— Помните старика на площади, который у меня в фильме встает и говорит: «Революция никогда не кончится! Даже если мы победим» (смеется). Я с ним согласен. Надеюсь, у людей всегда будут поводы для бунта. Я говорю об этом не с точки зрения идеология, а в самом простом смысле. Проблема в том, что египтяне привыкли молчать и терпеть. Теперь исламистам и армии будет очень тяжело управлять этими людьми, как раньше. Ведь они показали правительству яйца, прятать их уже нельзя.

 Цивилизация
Цивилизация