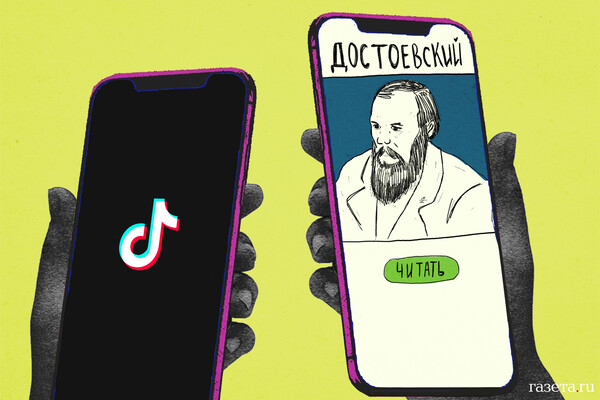Его спектакли обычно начинаются при полных залах, а заканчиваются при полупустых; зрители в голос кричат «Позор» и уходят толпами прямо во время действия. Из тех, кто остаётся, аплодируют на поклонах лишь немногие, зато, как правило, стоя. «Москва — Петушки» исключением не стала: в Санкт-Петербурге вокруг неё уже полтора года продолжаются гневные баталии, а сразу после фестивального показа в Театре им. Моссовета именитые критики не стеснялись в самых резких выражениях.
Жолдак пригласил на главную роль Владаса Багдонаса — литовского актёра, известного у нас по спектаклям Эймунтаса Някрошюса (а также снявшегося в новом фильме Павла Лунгина «Дирижер», выходящем в прокат 29 марта) и многими почти боготворимого. Когда он, наделённый трагическим темпераментом не сегодняшней мощи, выходит на сцену, становится уже не очень важно, что происходит вокруг: весь зал следит за ним с замиранием сердца (и восприятие зрителями Багдонаса, таким образом, явно входит в конфликт с восприятием ими Жолдака). «Москва — Петушки» во многом отталкивается от личности Багдонаса, строится на его собственном героическом образе и сложной игре с его персонажами из спектаклей Някрошюса.
Жолдак отметает все фактические обстоятельства текста Ерофеева — никакой электрички и никаких реалий советской эпохи. Он забирает Веничку из конкретного времени и места, помещая в пространство эпоса и поднимая до архетипа.
Вместо потёртых скамеек в замызганном вагоне — маленький дощатый домик под засохшим деревом, на фоне сурового северного неба, на берегу бушующего целлофанового моря. Обитающему там Венедикту подвластно всё: вот он начинает размахивать бруском на чёрной ленте — и разражается буря; останавливает его — и наступает штиль. В этом странном пространстве вне жизни и смерти для него нет невозможного. В мире же обыкновенном он оказывается беспомощен.
Веничка у Жолдака раздваивается не только ментально, но и физически: вторую его ипостась играет питерский актёр Леонид Алимов. И если Багдонас воплощает его хаотичный внутренний мир, то Алимов — внешнюю, рассудочную его сторону. Именно он, повязывая первого Веничку длинной белой нитью, уводит его прочь из привычной среды. Вместе они оказываются среди нас, как сошедшие с небес боги.
Из эпоса Венички перемещаются в сегодняшний день, сидят под фотографией Кремля, с любопытством глядя в зал, и препираются с подозрительного вида «пидарасом в красной футболке», подметающим сцену колючей метлой.
Ерофеевские «ангелы Господни» обретают плоть и кровь в лице женщины, похожей на продавщицу, не выпускающей из пальцев сигарету и матерящейся через каждое слово; крылья её напоминают куриные куда больше, чем ангельские.
Эти ангелы могут помочь не абстрактно, а вполне чётко — поставить на место грубого официанта, которого оба Венички со своей обходительностью называют «многоуважаемым».
Багдонас-Веничка, могучий, коренастый, седобородый, говорит распевными переливами, на идеально правильном русском, которого сейчас почти не услышишь, растягивая гласные и тщательно артикулируя каждую букву. Своей статью и речью он подобен былинному богатырю — все рядом с ним несоизмеримо мелки. Когда он разглагольствует о смысле жизни, подчинённые ему рабочие глядят на него осоловелыми глазами и лузгают семечки.
Трагедия этого Венички — трагедия непонятого гения, человека, чьё сердце готово вместить в себя страдания всего человечества, но не находит никакого выхода, натыкаясь на пустоту равнодушия. Героя, попавшего в безгеройное время.
Флешбэками врываются в спектакль эпизоды с музой Венички, девушкой «с косой от затылка до попы», у Жолдака относящейся к его эпическому прошлому. Поочерёдно они пробегают по деревянным мосткам, делая странные жесты. Ритмично постукивают ладонями по груди, выкликая биение сердца. Ударяют по доскам согнутыми локтями. И можно было бы красиво объяснить эти моменты словами об эфемерности мечты и неразрешимости одиночества, но они в этом не нуждаются. Спектакль Жолдака полон таких сцен, долгих и бессловесных, вязко метафоричных, и любая расшифровка убьёт их поэтику без остатка.
Здесь главное в атмосфере, энергетической наполненности, безумном потоке фантазии режиссёра, который опасно втискивать в искусственно придуманные русла.
Два мира «Москвы — Петушков» к финалу первого действия соединяются в полнейший сюр — в сцене дня рождения Венички, созданной из разных фрагментов романа. Гости собираются за длинным столом в напудренных париках и начинают изъясняться исключительно по-оперному, мелодично пропевая фразы вроде «э-эх, Ерофеев, м**ила ты грешный!». Веничка Багдонаса радостно заправляет пиршеством, в определённый момент засыпая с храпом и посвистываниями и вдруг обрастая бородой, как у Льва Толстого. Жолдак издевается одновременно над напыщенностью классического театра, традиционными для русской литературы подробными изображениями праздничных застолий и культурой Серебряного века (среди участников торжества «Боря с какой-то полоумной поэтессой»). Но есть тут и серьёзный смысл о жизни, проходящей мимо за бесконечными попойками (удлиняющаяся борода — не что иное, как процесс старения). А вконец разошедшийся в пьяном угаре Веничка начинает дирижировать героями и сам же выступать в роли музыканта — перебирая пальцами волосы, проводя прутиком-смычком по надрезанному огурцу. От его движений вдруг возникает музыка, которую он рождает лёгким прикосновением руки.
Этот капустнический настрой исчезает из спектакля к середине второго акта, когда силы Венички начинают истощаться. Отовсюду появляются предвестия скорого возвращения туда, откуда он родом, а значит, и скорой гибели. Чучело рыжей лисы, шепчущей что-то на неведомом языке (многие посчитали её плагиатом из триеровского «Антихриста», но в действительности этот же символ был у Жолдака и в «Войцеке», вышедшем ещё до фильма), пустая банка, издающая протяжный гул, если её приложить к уху. Веничка ощущает зов неких высших сил, которые ему уже неподвластны. Он садится на последний привал. В полной тишине Багдонас долго и аккуратно расстилает салфетку, достаёт кусок чёрного хлеба и медленно поедает его, откусывая по кусочку. Потом на секунду укладывается на землю, после чего решительно встаёт, чтобы отправиться в путь, из которого не будет возврата. Мало кто из актёров способен наполнить эти простейшие бессловесные действия такой глубиной отчаяния в предчувствии смерти.
Свой главный и последний монолог Багдонас-Веничка произносит, стоя на выдвигающемся в зал мостке и прямо обращаясь к зрителям. В кромешной темноте, так, что видно только чёрный силуэт его фигуры, возвышающийся над нами. Громовыми раскатами голоса он говорит текст, которого нет у Ерофеева и который явно был частично сочинён актёром. О слове из трёх букв, написанном на запотевшем окне в электричке. О всеобщей тупости и бездушии. Об утрате идеалов и истин, за которые можно бороться. В другом спектакле и из уст другого человека эти слова могли бы звучать отвратительным пафосом. Багдонас же говорит их так, что хочется плакать — об участи Венички, о судьбе нашей страны, о себе самом. Становится ясен один из главных смыслов спектакля Жолдака:
великое прошлое уходит от нас безвозвратно. Веничка оказывается последним героем. Закончилось время сильных и волевых натур, пусть уже ощущавших одиночество и боровшихся с ним только путем возлияний.
На Веничку надвигаются четверо убийц, весело смеющихся, в плащах, белых рубашках и чёрных перчатках. Он хватается за горло и хрипит в приступе удушья. Потом разворачивается и мощной поступью размашистых шагов идёт назад, к вновь появившемуся на дальнем плане своему дому. Проходит мимо — свет в окне горит уже не для него. Для него только лестница поперёк неба, по которой он начинает карабкаться ввысь. Впрочем, упирается она в черноту, а второй Веничка в это время ныряет в полый древесный ствол и ударяется о его твёрдое дно уже без чувств. Так Веничка целостный замирает между низом и верхом, смертью и жизнью, обречённый остаться в этой сердцевине навеки, но точно уже без нас.
В «Москве — Петушках» Жолдака есть ещё очень, очень много всего. Оленья голова — своего рода веничкин тотем, в который вонзают ножи его убийцы. Девушки в чёрном, изображающие богинь судьбы. Милые индейцы, переставляющие декорации и иногда проплывающие через сцену на пироге (Веничка смотрит на них с явным недоумением)… Деталей множество, и каждая из них возникает не просто так и имеет для Жолдака определённое значение. Зрителей же они сбивают с толку, заставляют смеяться над режиссёром и называть всё происходящее на сцене бредом. Но достаточно просто поверить Жолдаку и пожелать войти в сочинённый им мир, чтобы понять: то, что он хочет сказать, на самом деле очень просто.

 Цивилизация
Цивилизация