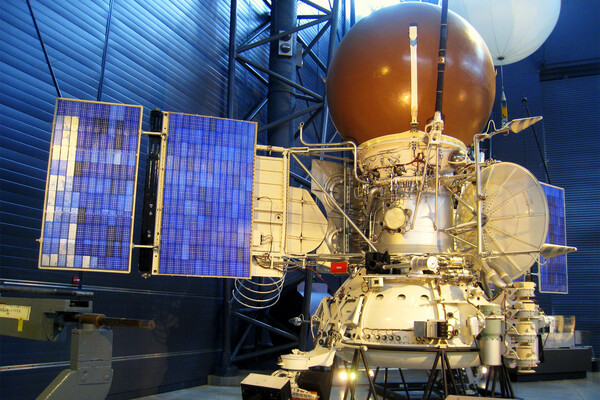«Пражская ночь» напичкана аллюзиями, намеками, параллелями, скрытыми и явными цитатами — одним словом, сплошной кошмар для литературного критика, который взялся бы за труд прямолинейно, «в лоб», расшифровывать текст Пепперштейна. Поэтому прежде всего расставим точки над i в главном: это, конечно, вообще никакой не роман, а самая что ни на есть поэма. Поэма в прозе, которая укачивает, но не убаюкивает, дразнит «вторым» и «третьим» дном, тут же обессмысливает их и влечет читателя вперед, страница за страницей, заставляя проглатывать с равным удовольствием высокий и низкий стиль, наукообразные штампы и наркотический бред.
Пепперштейн, с завидным нахальством встав в колею, проторенную Гоголем и Ерофеевым, вкладывает в уста своего лирического героя песню, вырастающую до масштабов приватной «Одиссеи».
«Согласился убить человека, и это я, нежный, добрый белокожий поэт, который прежде разве что на комаров поднимал белую руку! Я тоже считаю, что гений и злодейство несовместны, но мне-то зачем быть гением? Мне совсем не это интересненько. Мне интересненько, чтобы жили нимфы и фавны в глубине черного садика, чтобы жил старый домик. Мне удалось продлить жизнь этого домика почти на десять лет – я горжусь этим деянием. В этом домике жила тайная душа нашего города. Ее убили. Его все равно снесли, огромные тенистые деревья спилены, и там возвышается уже не синий клин, а другой банк, отель, бутик, ресторан, срань, апофеоз».
Главный, он же лирический, герой «Пражской ночи» имеет имя — Илья Короленко, действие происходит в конкретном месте — в Праге, и даже в конкретном времени — в 2008 году. Накрепко «привязав» таким образом повествование к реальности, автор затем только и делает, что с ней, с реальностью, рвет, подтверждая свое реноме психоделического романиста (перу Павла Пепперштейна в соавторстве с Сергеем Ануфриевым принадлежит культовый двухтомник «Мифогенная любовь каст» — книга о Великой Отечественной войне глазами галлюцинирующего парторга). Если бы не многосторонние таланты самого автора, то наркотическим бредом можно было бы считать одно описание характера господина Короленко: он не только убивает людей за деньги (он называет это «профессиональным киллингом»), но также сочиняет стихи (исключительно для себя, не для публики) и читает лекции по социологии и политологии. Топографически точные похождения героя по Праге описаны с любовью к городу, и это тоже объяснимо: сам Пепперштейн учился там в Академии изящных искусств.
Поэму спойлерами не испортишь, поэтому можно смело описать сюжетную канву «Пражской ночи».
Начав путь в наипошлейшем туристическом кафе на Староместской площади, Короленко по Карловой улочке и одноименному мосту идет на Град, к собору святого Витта, занимается своими «киллинговыми» делами, забегает в переулки Нового Света и чешет куда-то к инфернальному Нуслевскому мосту на конференцию, посвященную сорокалетию «пражской весны» 68-го года. Там он встречает юную американку, принимающую его за революционера-антиглобалиста, занимается с ней сексом, знакомится с ее отцом-миллиардером, оказывается вовлеченным в тайное общество, приобщается к миру богов и духов, спасается бегством от головорезов и, наконец, возносится на небеса. И, конечно, по ходу сочиняет многозначительно бессмысленные стишки. Про «Мифогенную любовь каст» Пепперштейн как-то сказал, что «эта литература призвана компенсировать отсутствие в современной России Голливуда». В «Пражской ночи» он делает, по сути, то же самое, но с тем же успехом, с каким Лермонтов копировал Вальтер Скотта. Приключения приключениями, но для здешних писателей литература по-прежнему главное развлечение.
«От Ша и Ва родился бог Шва, более известный как Синий Шива, бог разрушающего и восстанавливающего танца, его еще считают покровителем швов и швейных дел: он явился в виде великана, носящего в здешних краях имя Швейк: гигантский ухмыляющийся солдат, с которого сорвали погоны, бесконечно ерничающий, извивающийся толстячок, румяный, имитирующий безумие дезертир, особо нелепый на вид гигант в полинялом мундире Австро-Венгерской армии, а на поверхности кителя виднелись яркие пятна мха на плечах и бурые континенты крови».
Вышеприведенный абзац вырван из текста книги почти наугад: вся последняя треть «Ночи» — это сплошь такой же, восхитительный, незамутненный, литературоцентричный, культурологический делирий.
На самом деле, о чем эта книга — неизвестно. За барочной насыщенностью «Пражской ночи» псевдосмыслами проступают поиски не бессмысленности — нет! — но пустоты, в которой (или за которой) таится высший смысл. Это то, о чем проще говорить не философскими трактатами, а стихами. Поэзия, говоря языком лирического героя «Ночи», и есть «эмбриональный шелест истины».
– Ко-ко-ко, – говорит госпожа Курочка.
– Ке-ке-ке, – вторит ей товарищ мой петушок.

 Цивилизация
Цивилизация