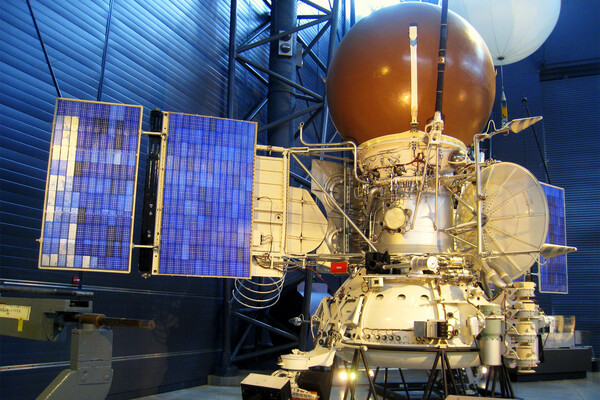«У нас не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма», — заявил на днях Владимир Путин. Похоже, он как никогда прав. Насчет него лично не знаю, а у большинства, кроме этой любви к родным осинам, почти ничего и не осталось…
В одной далекой лесной стороне, в глуши Центральной России, жила-была фабрика. Построили ее еще в середине XVIII века. Предприимчивые купцы только станки импортные завезли, остальное вокруг все свое: владельцы земли, лесов, полей, вод и трудовых резервов рады были заработку.
Делали на фабрике бумагу для книг, для журналов, почтовую. Хорошая, говорят, была бумага, на ней стихи Державина издавали.
Прошли года, отменили крепостное право, фабрика стала менее доходной: леса вокруг поредели, работники подорожали. Но все же, переходя из рук в руки, дотянула фабрика до 1917-го, когда социальная революция смела ее владельцев, но не уничтожила производство. После революции она вновь заработала, хотя и перешла с бумаги на изготовление картона.
Что же, и картон — вещь хорошая. Социалистический способ ведения хозяйства сделал главным не прибыль, а выполнение плана — план по картону давали, фабрика жила.
Но вот и социализму вышел срок. Пришла новая пора, снова вроде как рынок. Фабрика крякнула, подкосилась, но нашлись деловые люди, завели там производство «бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения», в просторечии туалетной бумаги, пожалуй, самой тонкой в мире. Потребители жаловались, что бумага рвется, руки пачкаются. Но фабрика все же выпускала до 9 млн рулончиков в год и приносила небольшую прибыль.
При этом исправно платила налоги, являясь практически единственным налогоплательщиком на этой территории. И работало на ней около 200 человек, что для местного населения значит — каждый пятый.
Но постепенно владельцы сообразили, что невыгодно им фабрику в этом селе держать. Мазут, на котором работает производство, постоянно дорожает. Все надеялись, что газ подведут, но никак не дотянется газопровод до лесного района, не туда ведут газовые пути нашего общего достояния, «Газпрома».
Вторая проблема — собственно дорога. Хотя это еще до «Платона» было.
Лес вокруг — федеральная собственность, его трогать нельзя, поэтому сырье — макулатуру для санитарно-гигиенических изделий — везли из Москвы, продукцию тоже увозили в города, а дороги к фабрике, считай, уже нет. Небольшой, меньше километра отрезок от трассы к селу раздолбали уже вдребезги.
Местные власти, понимая, что совсем без производства поселение захиреет, стали просить вышестоящие власти выделить им деньги на ремонт дороги. Но дело это не простое: нужен проект, тендер на проект, деньги на тендер, потом тендер на исполнение проекта. Шли годы. Деньги, наконец, из области выделили, и не маленькие. Стоимость 800 метров дороги без покрытия, то есть не асфальтовой, а грунтовой, оказалась… более 18 млн рублей. Золотая вышла дорога, почти 2 млн погонный метр. Других подрядчиков, подешевле, у дорожного фонда почему-то не нашлось. Но хуже другое.
Пока шла переписка, фабрика закрылась.
Глава местной администрации, он же председатель депутатской группы, теперь причитает: денег-то в местном бюджете нет ни на что. А цены на все — растут. Лампы на фонарях заменить — сотни тысяч рублей стоит. Справились бы и сами, но по закону нельзя, нужно заключать договор на подряд, проводить тендер.
На попечении главы 1800 человек, которые живут в 37 населенных пунктах, а зимой идет снег, и нужно чистить дороги, а трактористы отказываются делать это бесплатно. У сельского клуба долг за отопление — 200 тысяч рублей. А не топить нельзя — говорят, Путин не велел клубы закрывать.
Глава жалуется: «Каждый день я на коленях, дайте, дайте, только и клянчу. Вот в прошлом году счета заблокировали, электричество отключили, сельсовет пришлось закрыть, поехал в область, умолял, обошлось. На следующий срок я уж ни за что не пойду избираться, хватит. Здоровья никакого нет.
Я поначалу-то выступал. Теперь сил нет. На совещаниях молчу, говорю, все у нас хорошо!»
Денег муниципальному бюджету взять неоткуда. Инвесторы, о которых так много говорят в области, не приходят в далекий угол, откуда хоть три года скачи, ни до потребителя, ни до источника сырья не доскачешь. Единственное богатство края — лес — не принадлежит местным жителям, его хозяин — государство, которое сдает леса в аренду московским предпринимателям, которые налоги в Москве платят.
Да и лесов почти не осталось, один сухарник, как говорят местные, но и его нельзя брать на дрова, например.
Раньше — при господах — крестьянину разрешали валежник брать бесплатно, и крестьянину хорошо, и лес чистый стоит. Не то сейчас. На вывоз упавших стволов нужно покупать разрешение, иначе — штраф.
По лесам и не пройдешь, везде мертвые деревья крест-накрест валяются. Глава, хитро подмигивая, рассказывает, что елку для клуба в Новый год выписывает с заросших колхозных полей, там можно срубить, это земли поселения, документ законный. Вот только деревья на бывших полях пока тонкие, мелкие, больших елок там нет.
Поля заросли, потому что места эти — область рискованного земледелия. В районе осталось полтора хозяйства, где благодаря хватке руководителей еще что-то производят, но с каждым годом все меньше. И при колхозах, рассказывает один из бывших председателей, ни лен, ни рожь выращивать было невыгодно — почва глинистая, погода непредсказуемая…
А люди, между тем, продолжают там жить. Жалуются, но живут. Неизвестным науке способом. Сейчас их там меньше двух тысяч, и большинство старше пятидесяти. Молодые уезжают. Если могут, конечно, потому что сейчас с работой стало туго везде, а тут хоть свое жилье.
Спросишь, как живете, жалуются, а похвалишь места, скажешь про красоту и простор — улыбаются, приятно им все же.
Одна из местных жительниц два года назад потеряла мужа, умер от рака. Хороший был мужик, не пьющий почти, и руки золотые, и выдумщик, до всего своим умом доходил. В доме у него была чудо-печь, сам сочинил, сам построил, собственной хитрой конструкции: внутри печи был вмазан котел, от которого трубы с горячей водой шли по всему дому. Лежанку сделал теплую, изразцовую. Но чего-то не рассчитал.
Березовые дрова, которыми топят печи в том краю, содержат много дегтя, а следовательно — дают много сажи. Сажа со временем оседает в печных ходах, которые у него вышли длинные и извилистые, и если температура становится очень высокой, сажа может загореться, и тогда — пожар.
Так что вдова умельца в зимние студеные ночи спит вполглаза, печку сторожит — мало топить нельзя, трубы замерзнут и лопнут, а сразу много подложить — сажа загорится. Топором очищает дрова от коры, в которой самый деготь, и понемногу, по полешку, эти голые дрова в печь подбрасывает. Спрашиваем ее, чего не переедет к детям в город, где все полегче, хоть отопление паровое. А она отвечает, что не может мужа предать, его это дом, его детище, и будет она в нем дух поддерживать, пока ноги носят.
Мне кажется, примерно так существует сегодня большая часть России. Люди по каким-то им самим лишь понятным соображениям, из лирических по существу чувств, готовы поддерживать жизнь в стране вопреки не только выгоде, но и логике, да и здравому смыслу. Из упорства, ну и любви, наверное.
Ресурс этот велик, и на нем сейчас многое держится. Но, боюсь, и он может быть однажды исчерпан. Дух последний остался.

 Цивилизация
Цивилизация