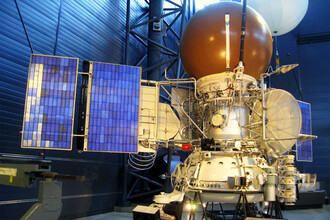Странно думать, что Пушкин писал на «государствообразующем» языке. Русский язык – ключевой государствообразующий фактор для страны, а сохранение русского языка является вопросом национальной безопасности, сообщил, отмечая день рождения Александра Сергеевича, он же День русского языка, глава Крыма господин Аксенов.
С органами безопасности, хотя он был с ними, особенно в лице графа Бенкендорфа Александра Христофоровича, знаком, у Пушкина, невыездного и гонимого, были чрезвычайно напряженные отношения. Как и с органами цензуры и перлюстрации. Из-за чего не было отправлено его знаменитое письмо Петру Чаадаеву от 19 октября 1836 года, и без того написанное так, как будто заведомо предполагало соучастие в переписке как минимум еще одной пары глаз. То самое, где в черновике сказано о правительстве, которое «все еще единственный Европеец в России» (и даже в черновике было вымарано: «и что не несмотря на то, что в нем есть тяжкого, грубого и циничного»). То самое, где «общественная жизнь» в России навсегда заклеймлена: «…это отсутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству – поистине могут привести в отчаяние».
Всероссийское отмечание дня рождения «нашего всего» в очередной раз превратилось в комбинацию цирка на конной тяге, где футболисты читали вслух «У Лукоморья дуб зеленый», хотя им больше пристало, прыская, зачитывать фрагменты из богохульной «Гавриилиады», с аттракционом невиданного приаттачивания Пушкина к задачам государственной важности и государственной безопасности.
«Пушкин в новостях» летал, как пух от уст Эола.
То внезапно «раскрывался секрет величия и притягательности русской литературы», то хоккейный клуб СКА поздравлял болельщиков с Днем русского языка, опубликовав портрет поэта с клубной эмблемой на вороте пальто и в игровом шлеме синего цвета. То отмечалось нечто вроде «Пушкин и Крым: 200 лет вместе». То коммунисты, вооружившись отправленным в 1827 году в Читу друзьям-декабристам стихотворное письмо, тонко намекали: «Оковы тяжкие падут, / Темницы рухнут – и свобода / Вас примет радостно у входа…»
И, конечно же, только ленивый не упомянул чрезвычайную пользу холерного карантина 1830 года, обернувшегося болдинской осенью.
(До этого миллионы россиян, отродясь не бросавшие взгляд на стихотворения Иосифа Бродского, узнали о нем как о проповеднике самоизоляции, правда, параллельно воспевавшего табакокурение, как и одновременный отказ от Эроса и вируса.)
В общем, всяк приватизировал или, наоборот, национализировал солнце русской поэзии на свой лад.
Реже, чем можно было представить – очевидно, это предполагало более глубокое знание поэзии – народные витии вспоминали о стихотворении «Клеветникам России». Хотя, казалось бы, этот поэтический ответ многочисленным керзонам как нельзя лучше подходит к сегодняшнему внешнеполитическому курсу и борьбе с «кичливым ляхом».
В письме Петру Вяземскому от 1 июля 1831 года Пушкин писал о поляках: «И все-таки их надобно задушить, и наша медленность мучительна». Впрочем, за этот «спор славян между собою» член тайного общества Николай Тургенев, избежавший печальной участи друзей благодаря отъезду за границу, так сказал о Пушкине: «Можно иметь талант для поэзии, много ума, воображения, и при всем том быть варваром». Его брат Александр Тургенев защищал Пушкина: «Вяземский очень гонял его в Москве за Польшу… Он только варвар в отношении к Польше».
По одной из неподтвержденных легенд, Пушкин, в нарушение очередного «изоляционного» (хотя и не «самоизолязционного») режима порывался приехать в столицу, узнав о кончине Александра I. Как раз поспел бы к восстанию декабристов и невольно в нем поучаствовал бы, в чем потом сам и признавался Николаю I, введшему «прямое президентское правление» стихами поэта. Однако дорогу перебежал заяц — предвестник беды не лучше (или не хуже) черной кошки. И Пушкин счел за благо вернуться в Михайловское.
Пушкин натерпелся от политического руководства страны, много грубых слов написал о нем в Десятой главе «Онегина», попутно заметив: «О русский глупый наш народ» и описав сходки декабристов. Откровенно издевался над своим героем в набросках к «Путешествию Онегина» с его искусственным славянофильством: «Проснулся раз он патриотом / Дождливой, скучною порой… Уж Русью только бредит он, / Уж он Европу ненавидит / С ее политикой сухой, / С ее развратной суетой». Как все-таки глубока и неизменна русская идеологическая колея…
8 сентября 1826 года Николай, выдернув Пушкина из ссылки, обсуждал с ним преобразования в России, а затем, получив от него записку о народном воспитании, исчеркал ее вопросительными знаками. Уж если кто и имел бы право в философском смысле присвоить Пушкина-политического мыслителя, так это «системные либералы».
Александр Сергеевич, несмотря на свои иной раз резкие и неосторожные высказывания, был типичным либеральным консерватором, верившим в преобразования России с самого верха государственной пирамиды.
В некотором смысле Пушкин стоял в одном ряду с фигурами уровня Михаила Сперанского, которого то приближали ко двору, заставляя писать один план перемен за другим, то «равноудаляли», в том числе в ссылку. Цари, как и впоследствии генеральные секретари и президенты, всегда задумывались о модернизации, неизменно составляли что-то вроде Негласных комитетов по разработке дорожных карт, но всякий раз, за редкими исключениями, опасливо откладывали реформы. Николай внимательно изучал программные документы декабристов, потому что его в целом интересовали планы возможной модернизации.
Повешение повешением, Сибирь Сибирью, а делать-то что-то надо, и общественное мнение, особенно в продвинутых слоях, тоже надо знать.
В «Общих замечаниях» о пугачевском бунте Пушкин, противник революций, описывал эту технологию заимствования российской властью планов своих оппонентов или учреждения небольших перемен ввиду недовольства трудящихся масс: «Нет зла без добра: Пугачевский бунт доказал правительству необходимость многих перемен, и в 1755 году последовало новое учреждение губерниям».
Пушкинская философия «сислиба» в концентрированном виде предъявлена в статье 1836 года «Александр Радищев», где поэт досадует на натерпевшегося от властей автора «Путешествия из Петербурга в Москву»: «Он как будто старается раздражить верховную власть своим горьким злоречием; не лучше ли было указать на благо, которое она в состоянии сотворить?... само правительство… чувствовало нужду в содействии людей просвещенных и мыслящих, не пугаясь их смелости и не оскорбляясь их искренностью».
Впрочем, именно тогда, когда Пушкин писал эти строки, а, кроме того, и письмо про «единственного Европейца» (именно так, с заглавной буквы), начальство нервно перебирало планы модернизации и хотя бы частичного освобождения крестьян, но не предпринимало вообще ничего. В течение царствования Николая только по крестьянскому вопросу собиралось 11 комитетов и все — безрезультатно. Реформы Александра II начались почти четверть века спустя после гибели «сислиба» Пушкина.
В юности, впрочем, Александр Сергеевич еще не был измучен цензурой и отравлен холодным практицизмом модернизаторов при дворце. В оде «Вольность» – самом внятном изложении доктрины правового государства – он ставил закон выше царя: «Владыки! вам венец и трон / Дает Закон — а не природа; / Стоите выше вы народа, / Но вечный выше вас Закон».
Так что в связи с прославлением Пушкина с государствообразующим языком и госбезопасностью я бы обращался осторожнее. Не того поля ягода…
Не зря в своем блистательном подражании онегинской строфе, написанном по-английски для просвещения басурманских народов, Владимир Набоков назвал «наше все» «Elusive Pushkin!» — «Ускользающий Пушкин!»
Чем разыскивать у Александра Сергеевича доказательства в пользу своей революции или своей контрреволюции, лучше последовать по стопам Набокова и поискать в его строфах что-нибудь другое, более привлекательное и сверкающее: «Elusive Pushkin! Persevеring, / I still pick up your damsel's earring» — «Ускользающий Пушкин! С неизменным упорством я все еще подбираю сережку твоей барышни».

 Цивилизация
Цивилизация