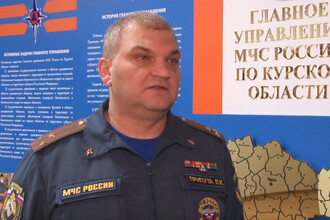Я хотел бы начать с отрывка из стихотворения Александра Межирова «Прощание с Юшиным», который послужит своего рода эпиграфом и одновременно отправной точкой для дальнейших размышлений:
«Бушуют калориферы при входе
В «Националь». Не слишком людно вроде,
Но нет местов. Свободных нету мест,
Пока обеда своего не съест
Симпозиум, конгресс и прочий съезд.
Доел. И наступила пересменка
Вкушающих посменно от щедрот,
Над новыми клиентами плывет
Шумок несуществующего сленга.
Кейфующая неомолодежь —
Коллеги, второгодники-плейбои,
В джинсовое одеты, в голубое,
Хотя повырастали из одеж
Над пропастью во ржи (при чем тут рожь?)…
Они сидят расслабленно-сутуло,
У каждого под задницей два стула,
Два стула, различимые легко:
Один — купеческое рококо,
Другой — модерн, вертящееся что-то
Над пропастью во ржи
(При чем тут рожь?), —
И все же эта пропасть — пропасть все ж,
Засасывающая, как болото.
И все они сидят — родные сплошь
И в то же время — целиком чужие.
Я понимаю это не впервые
И шарю взглядом. Рядом, через стол,
Турист немецкий «битте» произносит
И по-немецки рюмку шнапса просит.
Он хмур и стар. И взгляд его тяжел.
И шрам глубокий на лице помятом.
Ну да, конечно, он ведь был солдатом
И мог меня, голодного, убить
Под Ленинградом –
И опять мы рядом, —
За что, скажите, мне его любить?
Мы долго так друг друга убивали,
Что я невольно ощущаю вдруг,
Что этот немец в этой людной зале
Едва ли не единственный, едва ли
Не самый близкий изо всех вокруг.
Перегорело все и перетлело,
И потому совсем не в этом дело,
Как близок он — как враг или как друг».
Когда-то давно меня поразили эти стихи, мне и теперь кажется, что они по сей день не утратили своей шокирующей силы. Что же происходит в этом стихотворении? Поэт ощущает своих сегодняшних коллег, «кейфующую неомолодежь», чужими, а своим, единственно близким человеком — немца, как и он, прошедшего войну. Говоря языком философов и социологов, происходит переопределение идентичности: встретившись с воевавшим немцем, поэт освобождается от своей сегодняшней идентичности литератора, богемы, завсегдатая «Националя», открывая в себе старую идентичность солдата: призванный сразу после школы, Межиров прошел почти всю войну, был тяжело ранен, контужен, награжден боевыми орденами и медалями. И старая, и новая идентичности являются не врожденными, а, так сказать, приобретенными: он не родился ни солдатом, ни литератором.
По поводу понятия идентичности в философии, психологии и социологии наломано много копий, я не хочу вдаваться в эти дебри, скажу лишь о том, что представляется мне несомненным: существуют тесно связанные между собой персональная и социальная идентичности индивида. Под первой понимают «длящееся внутреннее равенство с самим собой», «непрерывность самопереживания личности», под второй — отнесение себя индивидом к той или иной группе — этнической, идеологической, культурной, религиозной, профессиональной, национальной, политической и прочей. Если первая — персональная — идентичность является неотъемлемым свойством человека и распространяется настолько, насколько хватает его памяти о себе, то вторая — социальная — может быть результатом свободного выбора, насколько индивид на него способен.
Человек может воспринимать свою принадлежность к группе как сущностно значимую для себя или как случайную, т.е. принимать группу, в которой он оказался по стечению обстоятельств, или отвергать ее. Возможен и третий вариант. Так как у человека имеются несколько идентичностей, например этническая и профессиональная или, скажем, политическая, он может определять себя через одну из них, а другие игнорировать или отодвигать на второй план.
Если для Василия Шукшина было, без сомнения, важно то, что он не просто писатель, а русский писатель (национальная идентичность), то для Валентина Распутина имело, вероятно, решающее значение, что он из Сибири (региональная идентичность), и он уснащал свои тексты далеко не всякому понятными местными диалектизмами, тогда как Владимир Набоков в поздний период творчества, напротив, отвергал любую национальную ограниченность, считая себя писателем и только (профессиональная идентичность).
У Межирова есть стихотворение «Москва, мороз, Россия…», где он пишет о себе: «Был русским плоть от плоти / По мысли, по словам, / Когда стихи прочтете / Понятней станет вам».
Между тем русским Межиров как раз не был — и это отлично было всем вокруг известно, «плоть от плоти» он происходил из еврейской семьи, но свои стихи он относил к русской поэзии, что давало ему, по его мнению, право считать себя русским. Правда, заканчивается это стихотворение неожиданно: «Я жил в морозной пыли/ Закутанный в снега./ Меня писать учили/ Тулуз-Лотрек, Дега». То есть свои стихи, которые поэт предъявляет в этом стихотворении практически как графу о национальности в советском паспорте, он учился писать у французских художников.
Я вижу в этом неожиданном признании прежде всего парадоксальный жест — хотя бы потому, что следы учебы у русских поэтов от Блока до Ходасевича гораздо заметнее у Межирова, чем влияние французских постимпрессионистов, но жест неслучайный, говорящий о стремлении вновь ускользнуть в последний момент — в самой последней строке — от окончательной идентификации, на этот раз по национальному признаку.
Чем вызвано это упорное стремление? Откуда эта потребность вновь и вновь выламываться из круга своих и искать свое место — или свои истоки — среди чужих?
Первый ответ лежит на поверхности, он легко прочитывается в стихотворении «Прощание с Юшиным»: «свои» раздражают, вызывают неприкрытую неприязнь объединяющей их фальшью. «Кейфующая неомолодежь / Коллеги, второгодники-плейбои, / В джинсовое одеты, в голубое, / Хотя повырастали из одеж / Над пропастью во ржи (При чем тут рожь?)…»
При чем тут рожь, и в самом деле непонятно, пока не вспомнишь популярную в советское время переделку названия знаменитой повести Сэлинджера — «над пропастью во лжи». Именно в этих условиях выросли коллеги, то есть поэты следующего после войны поколения — шестидесятники, завсегдатаи «Националя», из общества которых автор выходит ради той правды, что была во время войны, жестокой правды, делающей бывшего врага более близким, чем нынешние друзья. В «Прощании с Юшиным» выход из круга своих есть жест нонконформизма, обнажение и преодоление объединяющей «своих» фальши.
Замечу в скобках, что «свои» всегда объединяются, неизбежно игнорируя важные различия между ними, например когда речь идет о политически, идеологически и, тем более, эстетически своих, и тогда выход из их числа всякий раз продиктован нонконформизмом, настаиванием на своем отличии.
Вообще можно, я думаю, сказать, что художником в самом широком смысле слова, включающем всевозможных «художников жизни», является тот, кто настаивает на своем отличии, тогда как нехудожник — не будем употреблять резко негативно окрашенное слово «обыватель» — настаивает на своем сходстве с другими, по сути, прячется за сходство.
Всевозможные союзы художников, даже основанные на общих идеях и подчиненные самой строгой дисциплине, как, скажем, французские сюрреалисты, носят, как правило, тактический характер и по прошествии времени интересуют только историков искусства. Обычному же читателю или посетителю выставки в большинстве случаев безразлично, в какую группу входил любимый ими мастер, сделал ли он свои открытия в результате членства в группе или совершил их сам, — главное, он воплотил их неповторимым, индивидуальным образом, заставляющим их интересоваться им, а не его коллегами по объединению. Такое настаивание на своем отличии происходит в следующем, практически программном стихотворении Межирова:
«Пусть сочтут эти строки изменой
И к моей приплюсуют вине:
Стихотворцы обоймы военной
Не писали стихов о войне.
Всех в обойму военную втисни,
Остриги под гребенку одну!
Мы писали о жизни… о жизни,
Не делимой на мир и войну».
Если в «Прощании с Юшиным» Межиров отрицает свою современную идентичность ради старой идентичности фронтовика, то здесь он уже выходит из обоймы военных поэтов, не желает быть остриженным под одну гребенку. Причем выход этот сопровождается одновременным стиранием различий между войной и миром:
«О войне ни единого слова
Не сказал, потому что она —
Тот же мир, и едина основа,
И природа явлений одна».
Это рискованное стирание различий — рискованное потому, что, по сути, отрицает уникальность трагического опыта военного поколения, что, понимает автор, вполне может быть сочтено изменой, — неслучайно.
Любой выход из собственной социальной идентичности ведет к пересмотру сложившихся рубежей между своими и чужими, к открытию одних границ и возникновению новых, к изменению личной политической карты.
Жертвуя привилегированным статусом поэта-фронтовика («И особых восторгов не стоим…»), Межиров получает взамен гораздо более глубокий взгляд на отношения между войной и миром, для которого война не страшное исключение из нормального миропорядка, а закономерное проявление человеческой природы, а мир — та же война, только скрытая, замаскированная.
«В мирной жизни такое же было:
Тот же холод ничейной земли,
По своим артиллерия била,
Из разведки саперы ползли».
В какой-то степени это стихотворение оказалось пророческим: после дорожного инцидента, когда под колесами машины, за рулем которой был Межиров, погиб актер Юрий Гребенщиков, поэту пришлось испытать на себе и огонь артиллерии моральных обличителей, и «приплюсование», разрастание действительно бывшей вины. Но сейчас не об этом.
Итак, в мирное время война продолжается: сохраняется граница между своими и чужими, сохраняется взаимное неприятие вплоть до военных действий, пусть без оружия и кровопролития. Но с точки зрения интересующей нас темы есть одно ключевое различие. Если бы «Прощание с Юшиным» возникло во время войны, оно было бы сочтено изменой в буквальном, а не метафорическом смысле, и автора мог бы ожидать вполне реальный трибунал. Тогда люди попадали под суд и за гораздо менее значительные грехи, чем признание немецкого солдата единственно близким человеком. Только с наступлением мира сделалось возможным выйти из сплоченных рядов своих и приблизиться к бывшему врагу, чтобы разглядеть в нем человека и даже почувствовать к нему близость.
Мир предлагает возможность выбора: жить в нем по законам мира или по законам войны — война такой возможности не оставляет.
Жить в мирное время по законам войны — значит стоять на страже неизменности идентичностей, охраняя неприступность границы между своими и чужими. Тогда как мирные законы мира допускают возможность пересечения этой границы и достижения точки, в которой противоположность своих и чужих становится относительной. Все ведь в конечном итоге зависит от того, кто смотрит и откуда.
Для человека, вышедшего за рамки собственной идентичности и приблизившегося к чужим, сумевшего взглянуть на них непредвзято, индивидуальные различия между ними делаются заметнее объединяющего их сходства, а это значит, что каждого из них он видит извлеченным из оболочки коллективной идентичности, единственным и неповторимым. Настаивание на своем отличии, побуждающее индивида сделать шаг в сторону от своей идентичности, влечет за собой и восприятие другого в его отличии.
Если выбор и отстаивание идентичности является, без сомнения, политическим поведением (так как идентичность должна удовлетворять потребности в целостном видении мира и, следовательно, в отграничении от других идентичностей, видящих мир иначе, либо в их подавлении), то выход из идентичности переводит восприятие в эстетический регистр, в котором окружающие предстают в их частности, вне групп и сообществ.
Восприятия в эстетическом регистре естественно ожидать от художника, в первую очередь от такого, для которого внимание к отдельному, частному человеку обусловлено самой сутью его ремесла, — от писателя.
В силу направленности своего профессионального интереса писатель предрасположен к тому, чтобы пересекать границу между своими и чужими, чтобы стать парламентером между ними.
Писатель, не отваживающийся выйти из ограничений своей идентичности, в большинстве случаев обрекает себя на одностороннее и клишированное видение вещей. Плюсы и минусы в его картине мира будут расставлены не им, больше того, он имеет все шансы не встретиться с самим собой, то есть не узнать, на что способен и каким писателем он мог бы быть, так как коллективная идентичность является укрытием, в котором человек прячется от выбора самого себя. «Лишь вне себя бываю я самим собою», — чеканно формулирует один из героев пьесы Роберта Музиля «Мечтатели». «Вне себя», очевидно, означает здесь вне внешних социальных идентификаций, вне того, кем видят меня другие и я сам, когда гляжу на себя глазами других.
Литература может быть — и во многих случаях является — пространством, где свободный от своей идентичности автор встречается с аналогичным образом увиденными им персонажами, в которых индивидуальное преобладает над социальным и коллективным.
В качестве примера можно привести, скажем, Набокова, из русского писателя сделавшегося писателем американским, а затем и всемирным, — прообразом, как сказано было в одной статье о нем, «будущего космополитического литератора грядущего единого мира, свободного от государственных границ» (только что-то этот прекрасный грядущий мир не приближается, а отодвигается от нас все дальше).
Или Василия Шукшина, менявшего как профессиональную идентичность с актера на режиссера, с режиссера на писателя (причем все три профессии присутствовали в его жизни одновременно, хотя каждая из них предполагает разный круг общения, то есть разных «своих», и во многом особенное мировосприятие), так и социальную: выходец из народа, он окончил ВГИК, один из лучших гуманитарных вузов страны, и благополучно, казалось бы, влился в ряды творческой интеллигенции, но при этом всем стилем поведения продолжал настаивать на своем происхождении, то есть оставался «своим среди чужих».
Так же как их автор, многие персонажи Шукшина не городские и не деревенские (сам он, как известно, терпеть не мог, когда критики причисляли его к писателям-деревенщикам), а горожане в деревне (или люди технических, то есть опять же городских специальностей) или деревенские в городе — тоже «свои среди чужих, чужие среди своих». Вообще Шукшин как нельзя лучше подошел бы для иллюстрации интересующей меня темы положения художника между «своими» и «чужими», но поскольку я говорю об этом в Ясной Поляне, я хотел бы подробнее остановиться на совершенно исключительном случае Толстого.
Кем был граф Лев Николаевич в своей сословной идентичности? Дворянином, русским аристократом? Бесспорно. Но из этой идентичности он выламывается наиболее демонстративным, наиболее знаменитым образом: всем памятна картина Репина, изображающая Толстого в крестьянской рубахе, идущего вслед за плугом по свежевспаханному полю. Весь образ жизни своего сословия он отвергал радикально и последовательно. Какова была его политическая или идеологическая идентичность? Был ли Толстой государственником или либералом? Славянофилом или западником? В письмах Герцену в Лондон он критикует обе эти заезженные колеи русского политического мышления, из которых оно не может выбраться уже третий век, не желая связывать свое представление о России ни с одной из них.
Наконец, он выходит из своей профессиональной идентичности, на вершине писательской славы оставляет литературу и делается религиозным мыслителем. Не вписываясь в рамки ни одной из существующих конфессий (религиозных идентичностей), он создает собственное учение и обретает множество последователей. При этом сам остается вне их круга и говорит о толстовцах, что это самая непонятная для него секта. И, отрекшись от литературы, заклеймив ее, Толстой, тем не менее, почти до конца своих дней продолжает создавать художественные тексты, многие из которых относятся к числу его шедевров.
Пожалуй, радикальнее, чем кто бы и где бы то ни было, Толстой настаивает на необходимости выхода из идентичности в «Смерти Ивана Ильича». Ведь именно то, что Иван Ильич ни разу не усомнился в своем праве судить других людей, в справедливости судебных приговоров не с юридической, то есть узкопрофессиональной, а с высшей нравственной точки зрения, становится причиной его предсмертных мучений.
Лишь на пороге смерти он понимает, что жил не так, и это «не так» в том и заключалось, что он никогда не ставил под вопрос ни себя, ни своего места в обществе с его правами и привилегиями (свою социальную и профессиональную идентичность).
Выламываясь едва ли не из всех возможных идентичностей, Толстой и своих персонажей рисует по большей части не как представителей сословия, класса, профессии, а как отдельных и неповторимых людей. (Исключение составляют разве что персонажи из народа, в которых он старательно подчеркивает их народность.) Поэтому-то читатели до сих пор воспринимают драмы из жизни русской аристократии позапрошлого века как близкие и важные для себя, не обращая внимания на то, до какой степени отличались от них толстовские герои по образованию, воспитанию, стилю жизни.
Литература, в которой вышедший из своей идентичности автор таким же образом описывает своих персонажей, существует поверх и помимо деления общества на «своих» и «чужих» (на славянофилов и западников, либералов и консерваторов, атеистов и верующих, коммунистов и капиталистов, русских и инородцев и т.д. и т.п.). Она несет в себе потенциал примирения, снятия конфликтов, преодоления «антиномий, которыми мучают бедных людей и которые просто не существуют» (Монтерлан, «Дневник»). Естественно, это не исключает политического подхода к чисто политическим вопросам — далеко не все противоречия могут быть преодолены, если просто не обращать на них внимания.
Но те, кто во всем без исключения видят политику, то есть борьбу за власть, превращают мир в скрытую войну. Политика мобилизует, искусство — если только оно не ставится на службу политике, а преследует собственные цели — демобилизует.
Мобилизованное политизированное общество живет во взвинченном состоянии, и, как висящее на стене ружье по законам драматургии должно выстрелить, так и мобилизованное общество рано или поздно неизбежно переходит черту, отделяющую скрытую войну от реальной.
Наша страна только что пережила полномасштабную войну, в которой с официальной точки зрения не участвовала. Парадоксальным образом сторонники этой войны, следуя линии руководства страны, должны были утверждать, что никакой войны между Россией и Украиной нет, а есть лишь гражданская война на Украине, тогда как ее противники настаивали на реальности межгосударственного конфликта. В этих спорах наглядно проявился еще один порок идентичности, на этот раз политической. Она не только отделяет своего носителя от самого себя, но и стоит между ним и реальностью.
Всякий относящий себя к оппозиции непременно должен настаивать на ошибочности и преступности любых действий власти, тогда как всякий считающий себя государственником по определению убежден, что в каждом слове оппозиционера скрыта измена, а власть никогда не ошибается.
Принадлежность к тому или другому лагерю наперед определяет реакцию на любые события, и если она оказывается иной, зависящей не от отношения к действующему президенту, а от самого события, его значения для людей или страны в целом, это неизбежно воспринимается как предательство. Так, например, был уволен с радио «Свобода» журналист с большим оппозиционным стажем Андрей Бабицкий за то, что позволил себе поддержать возвращение Крыма в состав России. Или, с другой стороны, всякий, кто радовался возвращению Крыма, но не испытывал никакого восторга, наблюдая дальнейшее развитие событий — «русскую весну» и последовавшую за ней войну, — попадает с государственнической точки зрения в разряд изменников, потенциальных или реальных.
Каждый, кто на свой страх и риск пытается сам понять меняющуюся и противоречивую реальность, оказывается вне своего лагеря и за пределами своей политической идентичности. Верность действительности почти всегда оборачивается неверностью «своим». Также дело обстоит и с другими видами идентичности, в политике все просто более наглядно и общезначимо. Этническая или национальная идентичность склонна в своих интересах подчеркивать одни обстоятельства и игнорировать другие, не менее свободно обращается с историей идеологическая идентичность, а религиозная объявляет происками инфернального зла любой индивидуальный мистический опыт, не вписывающийся в церковный канон.
В романе-трактате А. Пятигорского «Философия одного переулка» говорится: «Истина — если у тебя ее нет — всегда исходит от другого, чужого. А если она у тебя есть, то ты сам себе чужой. Любая «своя» истина — личная, семейная, профессиональная, национальная, классовая и т.д. — всегда жульничество, совершаемое в личных или общих интересах».
Таким образом, философ Пятигорский решительно разводит обладание истиной и принадлежность к «своим», истину и идентичность. По сути, стремление к истине обрекает человека на одиночество, на чужесть тем, кто ему всех ближе.
В случае когда речь идет о писателе, это предопределяет еще одну возможную функцию литературы — быть письмом в поиске «своих», письмом, как в бутылке, брошенном в книжном переплете в волны человеческого моря. Не тех «своих», кто предшествовал написанию письма и с кем объединяла автора его идентичность, а тех, кто воспримет содержание письма как важное для них, обращенное лично к ним. Можно даже предположить, что книга в случае удачи создает своему автору новую идентичность: он становится тогда тем, кто написал такую-то книгу. Эта новая идентичность принимается и подтверждается его читателями, она объединяет его с ними и они становятся для него своими.
Но это происходит лишь в удачном случае, когда найденная автором локальная истина оказывается общезначимой или, по крайней мере, значимой для большого числа людей. Если же сделанные им открытия никому, кроме него, не понадобились, тогда он остается один. Он вышел в своем поиске из круга своих, но маловероятно, чтобы он смог в самом деле сделаться своим среди чужих, он научился видеть их не чужими, а иными и отдельными, не похожими друг на друга, но это не значит, что они смотрят на него так же.
То, что границы идентичностей, казалось бы, легко преодолимы, не означает, что они перестают от этого существовать. И накладывать отпечаток непреодолимого различия.
Так что писателю, чье письмо не нашло адресата, а такое случается, к сожалению, достаточно часто — может, его почерк был невнятным или содержание слишком темным, а может, его адресат просто не успел еще родиться, — такому писателю остается только перечитывать в одиночестве горькие строки позднего, уже в эмиграции написанного стихотворения Межирова:
«…За что? За то, что жил в одной системе
Со всеми, но ни с этими, ни с теми,
Ни в этой стае не был и ни в той,
Ни к левой не прибился и ни к правой,
Увенчан и расплатой, и расправой
На похоронах жизни прожитой».

 Цивилизация
Цивилизация