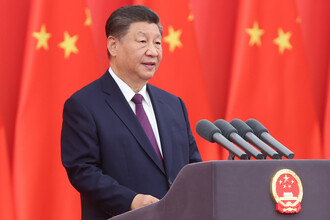Здесь на Вишере, в четвертом отделении УСЛОНа, разросшемся в 1930 году в самостоятельный лагерь УВИТЛ, в экспериментальном порядке начали обкатывать так называемую «перековку» со всеми ее прогрессивными новшествами типа «шкалы питания», «самоохраны», «зачетами трудодней».
С этого эксперимента, который прошел «успешно», и начался тот ГУЛАГ, который мы знаем. А точнее, совсем не знаем. И даже порой не представляем, с какой стороны бы лучше к нему подобраться.
Так вот подбираться лучше с этой — северной Вишерской стороны. А, например, не с Чусовской, где открыт для посещений музей «Пермь-36», который, безусловно, важен и значим, несмотря на то что тоже сегодня погряз и в спорах и даже в откровенных скандалах. Музей — это ведь история законсервированная, как ни крути, все равно ставшая жертвой интерпретаций, концепций, акцентов.
Красновишерск — совсем другое дело. Тут тоже есть экспозиции со сквозной идеей, тут тоже случаются слеты нашей рефлексирующей интеллигенции с ее извечными дилеммами «обличать или каяться». Но тут есть и другое. Из того. Из непереосмысленного, непереваренного. Из постоянно ускользающего для того, чтобы можно было слепить законченный символ эпохи или, прости господи, туристический бренд, но всюду явственно ощущаемого и безошибочно узнаваемого.
Рейсовый автобус въезжает в город, переползает речку Вижаиху, тянутся ряды почерневших бревенчатых многоквартирных двухэтажек, и сразу пронзает: вот оно. Позже выясняется, что пронзает верно, это и правда тот самый бывший Лагерь на Красной горке, тот самый ныне жилой микрорайон «Лагерь».
Как это распознается? Ведь дома барачного типа не всё же только в бывших колониях строились. И не сказать ведь, что накрывает тут каким-то особым чувством трагедии, и сердце щемит — двухэтажки весьма такие основательные, пряменькие, со стеклопакетами, за которыми цветы в горшках и тюль в рюшах. А по улицам меж этих барачных домов люди ходят: кто улыбается, кто озадачен, кто нетрезв, кто с нарядной детской коляской — словом, как везде, разные. А все же чувствуется — это оно. Особая история, особая атмосфера. Особый воздух.
Проезжаешь дальше загнувшийся уже Бумкомбинат и — опять. В нашей стране по большому счету все заводы похожи на зоны, но тут все равно какой-то отдельный случай.
Тут не похоже, тут зона и есть — одна из первых великих гулаговских строек.
И вот глядишь на это хозяйство убитое, и опять-таки не то чтобы депрессия и мрак, а все же задумываешься: благо это, что гигант уснул вечным сном, или беда для города? С одной стороны, почти все столбы на улице оклеены объявлениями о продаже квартир за маткапитал — люди из-за отсутствия работы уезжают. С другой стороны, гордиться такой историей главного предприятия города трудно.
Хотя гордятся. Сотрудница краеведческого музея, например, даже с энтузиазмом рассказывала о том, как здорово химичили дети заключенных, добавляя в состав бумаги то мать-и-мачеху, то ромашку. Библиотекарь, сопровождавшая нас в музее-диораме, достижением посчитала, что завод репрессированные строили полностью вручную, без спецтехники, и построили при этом за полтора года. Обе чрезвычайно уважительно отзывались о Берзине — точно о добром родственнике.
Эдуард Берзин, собственно, это начальник лагеря, тертый чекист, секретарь Дзержинского, командир латышских стрелков, хитрый разоблачитель Локкарта и... главный апостол «перековки», свято верящий в идею сотворения нового прекрасного человека, по некоторым описаниям, в том числе шаламовским, почти фанатик, мечтатель.
Писатель, отбывавший первый срок здесь же на Вишере, описывает великую мечту Берзина так: «Зачеты, позволяющие вернуться через два-три года десятилетникам. Отличное питание, одежда, рабочий день зимой 4–6 часов, летом — 10, колоссальные заработки для заключенных, позволяющие им помогать семьям и возвращаться после срока обеспеченными людьми». Кое-что из того на Вишлаге Берзин даже воплотил в жизнь — зарплате заключенных в первое время завидовали вольнонаемные, сроки часто сокращались вдвое.
Это не очень-то вписывается в истерику отдельных товарищей-либералов в духе «палачи они такие палачи» и потому естественно порождает другую крайность. Так «справедливости ради» другие товарищи-охранители бросаются то скандальными заявлениями об эффективности советских шарашек, то тем, что Шаламов сам, между прочим, сидел за дело, троцкист же!
Кстати, сам Шаламов тут занимает принципиально здравую позицию (как это ни поразительно, учитывая, через что он прошел). Варлам Тихонович описывает Берзина точно и беспристрастно: да, мол, хотел как лучше, да, дескать, кое-что успел, да, в рвении своем переделать человечество перегибал палку и пайку и никак не хотел видеть очевидного. Впрочем, может быть, мысль о том, что невозможно никакое благо, основанное на изначальной несвободе, не очевидна?
По крайней мере, мне показалось, что когда наша экскурсовод назвала Берзина гуманистом, она не шутила. Он ведь, мол, и клуб для заключенных построил, который сам спроектировал, потому что был талантливым художником, и зарплату опять-таки платил зэкам. И вообще, дескать, подопечных своих уважал, доверял им, многих отбывающих большие сроки ставил на ответственные посты (многие даже карьеры сделали), добился, чтоб лагерь жил преимущественно собственными каторжными силами.
Собственные силы — это и про самообеспечение, и про самоадминистрацию, и про упомянутую выше «самоохрану». Казалось бы, более изощренного способа стравить всех со всеми выдумать трудно. Шаламов пишет:
«Заключенному давали в руки винтовки — приказывать, стеречь, бить своих вчерашних соседей по этапу и бараку».
Впрочем, может, это только сегодня, уже после шаламовских разоблачений да после Стэнфордского тюремного эксперимента, мы можем предсказать, в какую нечеловеческую низость вырождается этакое «доверие высокого начальства», а тогда это и правда выглядело гуманным и прогрессивным?
Может, и желудочная система поощрений и наказаний тогда не сильно кого смущала — другое время (разруха, голод), другая жизнь? Может, тогда, в начале тридцатых, действительно не представляли, в какой кошмар это выродится через семь-восемь лет на Колыме? Может, в теории, всегда исключающей крайности, это правда виделось справедливым? Ведь и сейчас многие представляют справедливость шаблонами типа «кто не работает, тот не ест», не особо задумываясь, что эта «прописная истина» пришла к нам именно оттуда и что реально там научились жить те, кто как раз не работал, — блатари, выбивавшие себе стахановские проценты, обкрадывая «вшивых интеллигентов».
Может, и лагерные свадьбы — это нормально и естественно, даже если они заканчивались расследованиями по поводу того, сколько литров водки было выпито на самом деле, и карцером для загулявших? Неужели это просто такая жизнь?
Неужели жизнь — всегда жизнь — кривая, негармоничная, вечно выскакивающая из всех схем, в какие бы ее ни впихивали, и вечно сцепляющая намертво несовместимое.
Может быть, именно в этом главный урок ГУЛАГа? И может быть, когда сам ГУЛАГ мы пытаемся объяснить очередными схемами, хоть цинично-рациональными (мол, нужен был дармовой, рабский труд и только), хоть иррацинально-драматичными (власть в стране захватили негодяи), хоть метафизическими (божья кара, там, или коллективное затмение разума), хоть лжеотрицанием (это все враги в черном цвете малюют, а у самих там в Европах — Освенцим), мы опять и опять обманываемся? Гуляя по Красновишерску, трудно представить себе наше прошлое понятным и однозначным — да вообще объяснимым.
Проходишь все эти дома с огородами, скроенные по тем жутким лекалам, выходишь к реке — красота.
Это какая-то злая ирония, зоны у нас раскиданы по живописнейшим местам.
Берег здесь дикий, не втиснутый ни в камень, ни в асфальт, не причесано все — да, и неопрятно — стекло битое, банки мятые, шелуха из-под семечек, лодки черные, затопленные, но — пейзажи. Какие ландшафты, изгибы, закаты. И при всей неопрятности здесь легко и спокойно. Как там у Шаламова — «В природы грубом красноречье»?
А под вечер нарисуется на берегу какой-нибудь дяденька в серой казенной спецовке, подойдет вот к такой вот лодочке, казалось, давно заброшенной, вычерпает воду, отчалит рыбу удить — и хорошо ему. А начнете с расспросами приставать, еще удивится, чего, мол, плохо. Рыба водится, вода чистая, Полюд на другом берегу красиво синеет.
Отмелей, правда, много из-за ряжей, зато туристам эти рукотворные островки нравятся, даром они тоже — лагерное наследство, следы тяжелых работ по сплаву леса. А дяденька рублей за двести путешественников и рад прокатить мимо них, а с ветерком, на моторе (вы и не заметите, как он это кустарное приспособление на корму прикрутит) так и до скал Ветлана можно.
И вот прокатишься с этаким дяденькой и почувствуешь, что вот он-то со своей неказистой биографией, в этих депрессивных будто бы обстоятельствах — свободный человек. И поймешь, что жизнь везде жизнь, можно быть свободным в лагере, а можно быть лагерником на воле.
Лагерь ведь никуда не исчезает, сколько его ни упраздняй победами либерализма и демократии. Просто лагерь у каждого свой.
В какой лагерь, например, сами себя определили красновишерцы-бюджетники, зарабатывающие по пять тысяч рублей, но считающие героями Берзина или Дзержинского, верящие, что и сегодня государственные наши люди не подведут? В каком лагере застряли красновишерцы, мечтающие продать хоть за полмиллиона свои квартиры, никогда не бывавшие ни на Ветлане, ни на Полюде, ни на Тулымском камне?
И в каком лагере мотаем срок мы, обитатели столиц, что почувствовать себя по-настоящему свободными можем лишь за тысячу верст от дома, да в бывшей колонии?
Вот сидишь ты на том же Ветлане (не поленился, не испугался, вскарабкался по крутой тропе), сидишь, под ногами — река, тайга, огромное небо, и ты, черт возьми, как властелин мира. А сидишь и думаешь: кто ж тебя так обманул-то? Почему даже Вишера, вся засыпанная, израненная этими гулаговскими бревенчато-насыпными ряжами, течет себе вольней и покойней, чем ты — суетливо-философствующий человечек?

 Цивилизация
Цивилизация