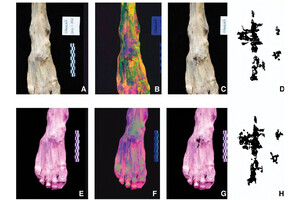Как воспринимали Андрея Дмитриевича Сахарова в конце 60-х и в 70-е годы? Большинство населения узнало о нем, только когда его стали поносить в газетах в начале 70-х — не объясняя, за какие заслуги его сделали академиком. Ведь атомщики вели секретную жизнь. Знала публика только о Курчатове, потому что Хрущев назначил его официальным лицом советской ядерной физики.
Для среды московских научных работников, в которой вырос я, атомщики не были таким уж большим секретом. Приедешь к друзьям в Комарово под Ленинградом — и они показывают, где дачи, которые атомщикам подарил Сталин. Помню, мой отец заходил по каким-то делам (кажется, что-то передать) к академику Льву Арцимовичу, который, как и мы, был из Белоруссии. Для отца не было секретом, чем раньше занимался Арцимович, как говорится, «все это знали».
Но Сахаров оставался в атомном проекте до 1968 года и поэтому был еще более засекреченным, чем другие физики-атомщики, раньше его вернувшиеся к академической жизни в «открытых» городах.
Эти люди были нужны государству не в меньшей степени, чем оно — им. Более этого, они были нужны как индивидуумы, а не просто как физик номер один, физик номер два и так далее.
Когда Льва Владимировича Альтшулера (впоследствии нашего соседа по кооперативу Дома ученых на Ростовской набережной в Москве), работавшего на атомном проекте с 1947 года, хотели оттуда выгнать (и, скорее всего, посадить) за критику гонений на генетиков в 1950 году на встрече с кадровиками, его спасло заступничество ведущих ученых проекта, включая А.Д. Сахарова.
В 1952 году научный руководитель КБ-11 в Сарове Юлий Борисович Харитон вторично спас Альтшулера, позвонив самому Берии и объяснив, что Альтшулер «очень нужен» для работы (см.: Экстремальные состояния Льва Альтшулера. М.: Физматлит, 2011. С. 82, 83).
Наверно, полуобразованным руководителям страны эти ученые казались чем-то вроде волшебников или во всяком случае — очень экзотическим штучным товаром.
Недаром Сталин не тронул академика Петра Леонидовича Капицу, когда тот отказался работать над атомным проектом под началом Берии — наверно, берег на всякий случай.
При Хрущеве фронда физиков проявилась довольно открыто, когда академики успешно восстали против принятия в Академию наук СССР протеже Лысенко, которому покровительствовал Хрущев. Хотя Хрущев и возмущался, но никого из ученых (не только физиков, но и биологов) не наказал.
В эти же годы в массовой культуре появился несколько романтизированный образ физика-атомщика (см. фильм «Девять дней одного года») — и это отражало необычное положение физиков-атомщиков в советском обществе.
К этому надо добавить общую атмосферу хрущевского времени и нескольких лет, последовавших за снятием Хрущева (1964): пробуждение интеллектуальной жизни, надежды на перемены к лучшему и нежелание расстаться с этими надеждами, которое было живо, наверно, до 1968 года (вторжение в Чехословакию). Так была подготовлена почва для появления Сахарова. Надо добавить трюизм: в Советском Союзе ученых уважали, это пришло с атомной бомбой.
Среди советских инакомыслящих (как они сами себя называли — иностранный ярлык «диссиденты» им налепила советская пропаганда, чтобы скрыть истинный смысл их мышления и деятельности за подозрительным иностранным словом, намекнуть, что эти люди работают на «врага») Сахаров выделялся тремя чертами.
Во-первых, занявшись правозащитной деятельностью, он пожертвовал гораздо большим, чем кто бы то ни было: этот потомственный русский интеллигент был обласкан властью, имел возможность контактировать напрямую с членами Политбюро. И дело здесь не в материальных благах (они Сахарова, по многочисленным свидетельствам, не интересовали вовсе) или в возможности получать ресурсы для новых научных изысканий (а какому крупному ученому этого не хочется?), а в соблазне мысли о том, что нельзя рисковать положением, которое может в будущем позволить ему сделать какую-то толику добра. Одно это заставляло смотреть на него как на святого.
Во-вторых, Сахаров был до 1980 года защищен от прямых репрессий: травили его и семью Елены Георгиевны Боннэр, но посадить его в тюрьму не решались. Почему? Может быть, опасались международной реакции, а может быть, уж очень высоко он стоял на номенклатурной лестнице, и Политбюро, хорошо помнившее Сталина, не хотело отправлять в тюрьму человека, столь близкого к ним по положению.
Таким образом, Сахаров стал, пользуясь термином XIX века, народным заступником: о нем рассказывали «голоса», и к нему стали стекаться со всего СССР люди в поисках защиты и помощи.
В-третьих, Сахаров был, пожалуй, единственным из инакомыслящих, хорошо знакомым с состоянием дел в советской экономике, во всяком случае в промышленности, которая почти вся была завязана на ВПК, в котором Сахаров проработал около 20 лет на самом высоком уровне.
И уж он точно был единственным инакомыслящим, интересовавшимся и прекрасно разбиравшимся в вопросах контроля над стратегическими вооружениями, в проблемах опасности и предотвращения ядерной войны.
Я хорошо помню, как мы с отцом были на показе какого-то заграничного фильма в московском Доме ученых году в 1970–1972. К нам подошел средний сын Льва Владимировича Альтшулера Саша и сказал: «Видите человека, с которым отец разговаривает? Это Сахаров». Отец, вовсе не склонный к восторгам, сказал мне: «Смотри, ты видишь одного из величайших людей XX века. Запомни». Тогда мне показалось, что от Сахарова исходило сияние.
Можно сказать, что он и был порожден своей эпохой, и был при этом совершенно уникален. Один из великих физиков эпохи, которая была богата великими физиками; великий гуманитарий — в жестоком XX веке.
Остается вопрос — как много людей считали Сахарова моральным авторитетом? В 1970-е годы большинство населения (здесь я могу только гадать— опросов общественного мнения не было) в общем верило пропаганде, которая поливала Сахарова помоями. Но тогда не такое уж маленькое количество людей относилось с доверием к тому, что передавали «голоса», и с полным недоверием к тому, что исходило от советских СМИ.
Картина мира была довольно четкая: или мы верим «Правде», или «Голосу Америки». Но было ощущение, что в принципе кому-то можно верить.
По-настоящему знаменитым Сахаров стал, когда вернулся из ссылки в декабре 1986 года. И время было особенное, и СМИ, наконец, смогли писать о нем правду, и ко всей его уникальности добавилось то, что он «пострадал за правду» — в России любят мучеников. Но вовсе не всем он нравился — достаточно вспомнить, как его выступления «захлопывало» номенклатурное большинство депутатов первого Съезда народных депутатов в 1989 году.
Трудно представить себе фигуру такого масштаба в России 1990-х и после.
В 1970 году надежд на будущее было мало, но тогда можно было во всем винить режим — а теперь кого? Люди получили свободу и не сумели ею воспользоваться.
Трудно после этого во что-то и кому-то верить. Верили Горбачеву, верили Ельцину — и что? Ученого (или писателя) с мировой известностью не сделают мучеником просто за то, что говорил правду. В медиапространстве такой шум, столько разных правд... В общем, всему — даже святым — свое время и место.
Автор — профессор политологии, Калифорния

 Цивилизация
Цивилизация