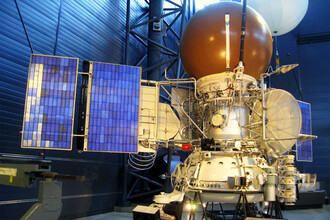Всю жизнь я повторяю два эти заклинания: Господь хранит своих дураков на своих путях и –
Погибают не мельницы,
А сумасшедшие витязи.
Это не переменится,
Это не удивительно.
И всегда мне представлялось, что этим можно оборониться от белого света. Либо так, либо иначе.
Но белый свет оказался гораздо изощреннее, чем можно было предполагать.
Несколько дней назад в телевизоре показывали фильм «Осенний марафон». А потом умер Андрей Ростоцкий. Какое, спрашивается, это имеет ко мне отношение?
Ненавижу советскую власть. Она заставила меня стать вором, убийцей и каскадером. Посудите сами – как еще можно было юному существу доказать актуальность своей свободы? Я ведь бился как лев. В институте мне даже удалось понять резон протеста: будь собой, говорило искусство, а театр тебя вспомнит хоть за это. В крайнем случае, постарайся стать независимым.
Мы не были особенно знакомы с Ростоцким. Он просто треснул мне по ляжке саблей и сказал, что ему для спарринга я не подхожу. Ну, конечно, он гораздо лучше рубился, а на лавке в конце зала его ждала красивая, длинноногая блондинка. Мне было дико завидно, что он такой мелкий, а завалил меня в первые полминуты. И девушка его на это смотрела. Я чуть не лопнул от злости, достал из себя все свои умения и влепил ему в правое плечо. А он даже не ухмыльнулся. Бросил саблю, хлопнул по плечу нашего мастера, Николай Василича, и пошел. Победитель чертов.
Ни вором, ни убийцей, ни каскадером я, понятное дело, не стал. Но ведь мог бы? И почти уже был. Когда в армии замполит дивизии обещал мне отправку в дисбат, я ответил ему, что готов. Всегда и ко всему. Даже к уничтожению первого попавшегося объекта. Пусть и в чине полковника. И это было чистой правдой. Меня настолько отвращало любое обязательство, что лучше было сделаться абсолютным нарушителем, чем выполнить хоть что-нибудь.
Когда Басилашвили в «Осеннем марафоне» говорит: «Да, да, да…», — мне кажется, что это я. Слабый, честный соглашатель со всем. Реквием по советскому времени. Именно против этого я сделался таким, какой есть. Кто б знал, как теперь трудно от этого отделаться. Ведь нет уже советской власти, а стремление послать к черту любого начальника живет во мне и живет. Разъяснял же в свое время папа, что мужество Ворошилова и Буденного, встававших в рост под пулями, сущая ерунда по сравнению с мужеством «12 разгневанных мужчин». Я и понял это буквально, кретин. Почему и принялся слать всех своих начальников к лешему. Такой вот храбрец безбашенный. Идиот, ей-Богу.
Данте учил нас, что «жалкие души» не принимают даже в ад. Как же мы стремились быть «не жалкими»!.. «Пусть все против меня – я этого желал!» — писал мой друг. А потом вдруг выяснялось, что это ни к чему хорошему не приводит.
Цитата:
Я сызмальства был трус. И до смерти боялся насилия над личностью, то есть вот именно, что над своим лицом. А еще очень не любил, когда били по яйцам. И всякий раз в начале драки чувствовал себя маленьким и незащищенным.
Дрался, тем не менее, регулярно. Во-первых – мое лицо словно напрашивалось на то, чтобы быть битым. А во-вторых, я был интеллигентный мальчик, сын интеллигентных родителей. Оттого читал много и преимущественно русскую классическую прозу вперемешку со всевозможными мушкетерами, бладами, дебержераками и cetera.
Каким-то странным образом уяснил себе из книг, что расквашенная физиономия и ноющая боль в паху — сущая чепуха по сравнению с мучительным чувством стыда. Трусом и предателем быть стыдно, бесчестно и неблагородно — так говорилось в литературе у классиков. Тонкий психофизиологический механизм, не изученный еще досконально современной наукой, снабдил этим знанием весь организм юного меня.
А потому я был трусом в двух предъявлениях: осознав факт своей трусости, приходил в еще больший, попросту в смертельный ужас. Холодный пот выступал на теле, в глазах все мутилось, в ушах нарастал гул, и я временно терял рассудок. Слезы стыда и страха лились из глаз, и так, до смерти боясь оказаться трусом, я становился абсолютно невменяемым. Позже узнал, что сходное состояние называлось когда-то «боевым безумием» и было свойственно берсеркам. Или — берсеркерам. Это знание не прибавило уверенности в себе, хотя несколько утешило.
Потом я подрос, но страх боли и страх стыда не пропадали. Интеллигентный человек — это звучит особенно гордо. И все, что есть у такого человека, — это честь и чувство вселенской несправедливости, более всего любимое именно российской интеллигенцией.
Именно поэтому мне всегда было необходимо дать в морду какому-нибудь здоровенному мужику – чтобы утвердиться. Или залезть на десятый этаж по балконам. Или вскарабкаться на отвесную скалу за маленьким горным тюльпанчиком. Или спрыгнуть с высоченной елки, приговаривая:
Вы велели мне взобраться
На высокую сосну.
Но, друзья, по крайней мере,
Не трясите же ее…
Что же еще сделать, чтобы убедить себя в реальности происходящего, а? Кто-нибудь знает? Неужели надо умереть? Вот глупость...
Покинуть дом и, год отпивши,
Вдруг протрезветь на островах.
И толком недопохмелившись,
Сложить избушку на холмах.
Оладьи печь, варить малину,
Писать стихи, а по ночам –
Усердно предаваться сплину
И резать ложки при свечах.
Ходить за рыбой на рассвете,
Днем спать, натрескавшись ухи,
И знать, что все на белом свете –
Лишь те же песни да стихи.

 Цивилизация
Цивилизация