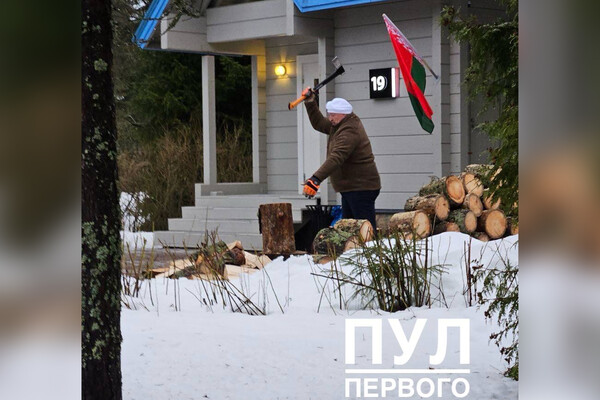В дни прощания с Александром Солженицыным многие высокопоставленные действующие лица со скорбными физиономиями некоторым образом напоминали героев известной пьесы Мольера: они как бы хотели чуть-чуть прикоснуться к чему-то (кому-то) великому, они тянулись. И думали, что дотягиваются или вот-вот дотянутся. Что, встав с выражением лица на цыпочки, окажутся вровень. И потому говорили об ушедшем большом человеке с подчеркнутой значительностью. Рассудительно. Но все равно дежурно: в последнее время похороны такой величины людей уже превратились в стандартный ритуал, во время которого штампованно что-то там бубнят и об «ушедшей от нас целой эпохе», и о том, что «нам его будет не хватать».
На самом деле все, конечно, не так…
Многие признавались, что, оказывается, читали «Архипелаг ГУЛАГ» тайно под одеялом в годы советского застоя. Между прочим, тогда за это можно было легко схлопотать несколько лет тех же лагерей. Кто бы мог подумать, что в советское время было столько среди нас вольнодумцев-вольтерьянцев! Эти люди, скорее всего, либо говорят неправду на потребу политическому траурному пиар-моменту, либо попросту ничего не поняли в наследии писателя Солженицына. Еще более любопытно, что эти же люди нисколько не смущаются тем, что Александр Исаевич, которым они вроде бы так восхищаются, был идейным, злейшим, непримиримым врагом системы, крах которой Владимир Владимирович назвал величайшей трагедией ушедшего века. И уж, верно, не видели они снятого некогда «Би-би-си» фильма, где в одном из сюжетов показано выступление Солженицына в 70-е годы в Америке, где он призывает США покончить с Советами, этим оплотом зла во всем мире, покончить силой и не ждать, пока американской молодежи потребуется защищать рубежи свободного мира. Хорошо, что Штаты тогда его не послушались.
Один неглупый и даже талантливый человек сказал мне в день его смерти: в его «Матренином дворе» и «Одном дне Ивана Денисовича» был видно, как он, осмысливая опыт лагерей и сталинской советской лагерной системы, «пытается бороться с Россией в себе». В результате он не пошел по пути, скажем, Ричарда Пайпса, для которого Россия что времен Екатерины Великой, что генералиссимуса Сталина была, по сути, одним и тем же режимом, режимом, в чем-то большом и значительном наиболее адекватно, полно и даже гармонично выражающим чаяния управляемых им подданных. И в этом смысле Александр Исаевич, хотя и не без большой внутренней работы над собой, ту внутреннюю борьбу «себя с Россией в себе» этой самой России как раз и проиграл. Это позволило ему в нее вернуться, но не принять по большей части рыночных и демократических перемен, затем сдержанно, но приветствовать эпоху «вставания с колен» и умудряться всякий хранить молчание в те времена, когда те или иные драматически события (скажем, две чеченские войны), казалось бы, требовали некой нравственной оценки от человека такого уровня, как он.
Впрочем, может быть, в этом был заложен некий гениальный, пусть неосознанный, смысл: в противном случае невосприятие современным российским обществом каких-либо нравственных апелляций предстало бы в своем воинствующем цинизме еще более вопиющим и еще более убийственным.
Наверное, как раз и хорошо, что по возвращении в Россию в 90-х этот бесспорно великий человек, исполин мысли, но и великий путаник одновременно (имел право, впрочем, как всякая незаурядная личность), так и не стал всероссийским мессией и пророком в своем отечестве. И не потому, что его политические идеи были во многом либо наивны, либо аксиоматичны. А потому, что время пророков уже давно прошло. Прошло время Нравственной Проповеди что с амвона, что с телеэкрана. Прошло время площадных обращений к взволнованной многотысячной толпе. Книжное слово утратило способность волновать массово публику, провоцируя жаркие, до хватания за грудки, дискуссии или ночные бдения с фонарем под одеялом – чтобы успеть прочесть общественно-резонансный раритет, размноженный на ротапринте, до рассвета. Писателям и поэтам далеко нынче до популярности и зажигательности рок-концертов. Визуальный смысловой ряд (смысловой ли?) вытесняет или уже вытеснил печатное слово. С каждым новым поколением неумолимо сокращается то время «экспликации» печатного текста, не перемежающегося (для облегчения чтения) картинками, комиксами или чем-то подобным, который способен воспринять эволюционирующий (куда и зачем?) среднестатистический человеческий мозг. Объем без затруднений воспринимаемой, усваиваемой гуманитарной (а не биржевой) информации уже сократился, кажется, до пары-тройки абзацев. По тому, что тянется в пространстве и в восприятии дольше, хочется «кликнуть мышкой», чтобы сменить утомляющий сюжет. Слишком долгое сосредоточение на чем-то одном становится все более невыносимым. Не цепляет.
В этом плане «Архипелаг ГУЛАГ», и ранее-то являвшийся не самым зажигательным и легким для восприятия и прочтения литературным произведением, обречен на то, что до конца этого текста со временем будут добираться все меньше и меньше читателей. Если доберутся вообще.
Вы говорите, выйдет высочайшее указание включить его в школьную программу по литературе? Ну-ну. Тогда надо сразу ставить телесериал, чтобы хотя бы самые усердные школьники могли пересказать, о чем там в общем и целом речь идет. Но, и пересказав, они не поймут там ничего, по сути. О чем это, спросят они? Что такое лагерь и почему это так плохо? А главное, зачем были придуманы все эти лагеря, если управлять человеческой массой, оказывается, можно гораздо более эффективными и в чем-то более гуманными средствами. Буквально практически с теми же результатами по части послушания, унификации поведения и мышления и прочих системообразующих для общества функций. Утопичные, но бесконечно искренние рассуждения Солженицына что о бесперспективности русского парламентаризма, что о предначертанном русским «земском самоуправлении» уж более попросту не актуальны. Быть может, потому, что он рассуждал, примеряясь к гражданам, а граждане в этой стране (да и не только в этой, тут случай общемировой) уже кончились. Их заменили consumers, то есть потребители. А принцип «один человек – один голос», как уже констатируют многие политологи, вытеснен лозунгом «один человек – один мобильный телефон» (или автомобиль, или домашний кинотеатр).
Что-то такое уже произошло с нами со всеми необратимое.
Легче всего тут сказать: измельчал масштаб эпохи, соответственно, и масштаб делающих ее людей. Редуцирован, упрощен до тошнотворности уровень дискурса. А может, уж и сам этот дискурс пропал вовсе как явление общественной жизни? Он стал вроде как ни к чему. Непрактичен, неликвиден – значит, не нужен.
Но, наверное, не только в этом дело. В чем еще? Бог весть. Просто хочется зарезервировать возможность для более сложного и осмысленного ответа.
Вдруг он отыщется и все не так примитивно просто. А если он все же отыщется, то кто и как, в какой форме попробует сформулировать этот новый смысл так, чтобы на это обратили внимание чуть раньше, чем настанет день похорон, и чуть на подольше, чем длится обряд отпевания очередного ньюсмейкера?
P. S. А вот сейчас у нас война с Грузией. Но, наверное, Солженицын и в этот раз промолчал бы. Как молчал во время обеих чеченских. Его интересовали вопросы нравственности. А тут, похоже, главный вопрос стоит — у кого что круче. Александр Исаевич Солженицын был не по этой части.

 Цивилизация
Цивилизация