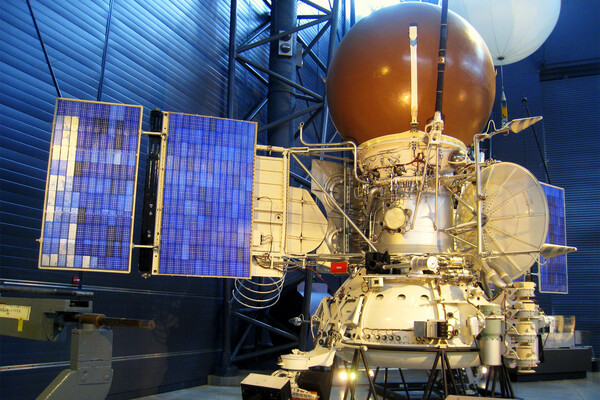То время определяют четыре главных театральных имени: Ефремов, Товстоногов, Эфрос, Любимов. Это они сделали рывок и буквально за волосы вытащили отечественный театр из того вязкого болота, где он находился в 40–50-х: из унылого и бессмысленного «омхачивания». Но первые трое пытались очистить, вернуть живое дыхание великой мхатовской традиции (примерно тогда же то же самое делали верные ленинцы). А Любимов будто вовсе решил отказаться от нее. Вы можете себе представить, как в 1963 году среди спектаклей, полных скучного жизнеподобия, выглядела постановка третьекурсников Щукинского училища «Добрый человек из Сезуана»? Веселые оборванцы, насмешливо разговаривающие прямо с залом, ряд сидящих актеров, которые хлопали по коленкам, и почему-то всем становилось понятно, что это работающая фабрика, черные очки и котелок, которые надевала актриса, и это означало, что она превратилась из робкой женщины в ее жесткого брата? Для зрителя, не привыкшего к условности на сцене, это был просто шок.
Говорят, когда в 1964-м Любимов вывешивал в отданном ему театре портреты кумиров, поначалу их было только трое: Брехт, Вахтангов и Мейерхольд. Станиславский появился позже, по требованию райкома партии.
Когда мы говорим о «великих», изменивших театральную атмосферу 60-х, мы в каждом случае имеем в виду разное. Например, Ефремов – это прежде всего «Современник»: созданный им театр был важнее его режиссуры. Эфрос — это только его спектакли, где бы они ни были поставлены. А Любимов и Таганка существовали в восприятии обновленного советского театрала только вместе. И 40 лет любимовской Таганке – это 40 лет таганскому Любимову.
До сих пор ведь никто не может объяснить, откуда взялся этот режиссер, приступивший к созданию нового театра с первого своего спектакля безо всякой раскачки и ученичества.
Вы только представьте себе этого красавчика из Театра имени Вахтангова — театра, залюбленного властями до полусмерти, знаменитого своими красавицами-актрисами, которые парадом выходили в ролях рабынь из «Принцессы Турандот».
В этом придворном театре лучшей ролью Любимова навсегда остался Олег Кошевой из «Молодой гвардии» 1948 года – по-мальчишески пылкий и несгибаемый. Все прочие его удачи так или иначе повторяли Кошевого или вовсе растворялись в пустых веселеньких спектаклях, ставящихся под знаменем вахтанговской «праздничной театральности». Всего за четыре года до создания своей Таганки Любимов дебютировал здесь как режиссер веселым пустяком — комедией Александра Галича (тоже будущего ниспровергателя) «Много ли человеку надо?!». Впрочем, этот дебют так и остался незамеченным. Но выглядел Любимов удачником: красавец, женат на Целиковской, дерзкий и любимый всеми. Он не был крупным актером, но в театре играл много, да и в кино снимался немало, расклад экранных ролей был тот же: иногда тяжеловесный реализм типа какого-нибудь «Композитора Глинки», но чаще всего развеселая залипуха вроде «Кубанских казаков». А потом Люмимов пошел преподавать в Щукинское училище и – раз! – вдруг поставил «Доброго человека».
В 1964-м, в год смещения Хрущева, родился театр на Таганке. Уйдя от вахтанговцев героем-любовником и не очень удачливым постановщиком-дилетантом, Любимов пришел в новый театр вместе со своими учениками-щукинцами совершенно сложившимся режиссером жесткого и обнаженного стиля нового времени. Обычный выпускной спектакль Щукинского училища создал целое направление в искусстве. В то время как вахтанговский театр еще доигрывал комедии про развеселых колхозников, открывшаяся Таганка будто взяла на себя новые возможности наследников Вахтангова: поэзию и романтику, иронию, сарказм и пафос сурового стиля.
Странно как-то писать о Любимове как об историческом персонаже, как о Станиславском, к примеру. Он единственный из великих своего времени еще жив и продолжает ставить спектакли. Но как не ошибиться тем, кто, как я, застал таганский стиль на излете? Конечно, я слышала, как много значила в 60–70-х любимовская дерзость, которую он отдал своему театру, свойскость его героев и грубоватое, но пронзительное звучание его многоголосых поэтических композиций. И хриплый рык Высоцкого-Хлопуши, и его Гамлет с гитарой и в свитере. Так было, но в начале восьмидесятых, когда умер Высоцкий и, завороженное рассказами родителей, на Таганку стало ходить мое поколение, все уже стало по-другому.
В репертуаре оставалась практически вся любимовская классика, ее можно было увидеть, но понять, чем она была десять-пятнадцать лет назад, не удавалось. Это была как бы действующая модель старой Таганки: было понятно, как она устроена, шел дым, крутились колеса, только везти людей она не могла.
Я помню, что тогда смотрела подряд весь легендарный репертуар. Фирменные любимовские спектакли-массовки вроде «Десяти дней, которые потрясли мир», «Послушайте!» или «Товарищ, верь…» выглядели устаревшими и лобовыми, как агитбригады. Былые трифоновские шедевры «Обмен» и «Дом на набережной» тоже не били так наотмашь, как тогда. Мы уже к тому времени много читали, много знали, много понимали про страну, в которой живем, и то, что когда-то представлялось смелостью, выглядело почти что фигой в кармане. Да и главный валютный спектакль Таганки «Мастер и Маргарита» казался поверхностным и разочаровывал. Любимов ведь никогда не был режиссером-мыслителем. Он был природно одарен, талант у него сидел, как говорится, в спинном мозгу, и дольше всего жили те его спектакли, которые были построены не на парадоксах и резких монтажных сопоставлениях (эти-то как раз скоро устаревали), а на живом чувстве. Например, пронзительные и скупо-сентиментальные «А зори здесь тихие». Или неожиданно страшная, жесткая «Мать».
Чтобы оценить былую ценность этих постановок, приходилось очень многое достраивать в уме. Они не жили без контекста.
Когда перестали говорить об эстетической новизне любимовской Таганки, стали ворчать, что это театр разрешенного свободомыслия, обсуждали, что именно с помощью Таганки властям удобно выпускать пар у недовольной интеллигенции, а также демонстрировать Западу существование оппозиции. Обсуждали, что у дерзкого Любимова, конечно, есть какая-то поддержка на самом верху, иначе почему, когда цензурой закрывали и калечили спектакли других, когда ломали Эфроса, Фоменко, Захарова, куда большему фрондеру Любимову почти всегда удавалось свои постановки спасти. Власть позволяла Любимову быть хулиганом и с удовольствием выслушивала о себе колкости. В зале сидела номенклатура и комиссионка.
В этот момент Любимов уехал. То есть, если быть точным, он не уехал, а был лишен гражданства за какие-то резкие интервью, данные во время работы за рубежом. Но он исчез с московской сцены так же резко, как и появился. И, наверное, был прав.
Теперь Любимов снова в Москве. Он снова много работает, хотя в его театре почти не осталось прежних артистов, и даже великий Давид Боровский — художник, создавший с ним Таганку, ушел. В театре много молодежи – новые ученики Любимова, и они, как и прежние, сорок лет назад, веселой кучей вываливаются на сцену в премьерах. Я не могу сказать, что это новый Любимов, поскольку его новые спектакли сохраняют приметы старых. Но сказать, что 87-летний режиссер остался прежним, тоже нельзя. Но, конечно, его энергия и уникальная способность в таком возрасте делать спектакли восхищает, как поражает способность в такие годы зачинать детей.
Сегодня Таганка покажет спектакль по обэриутам «Идите и остановите прогресс».

 Цивилизация
Цивилизация