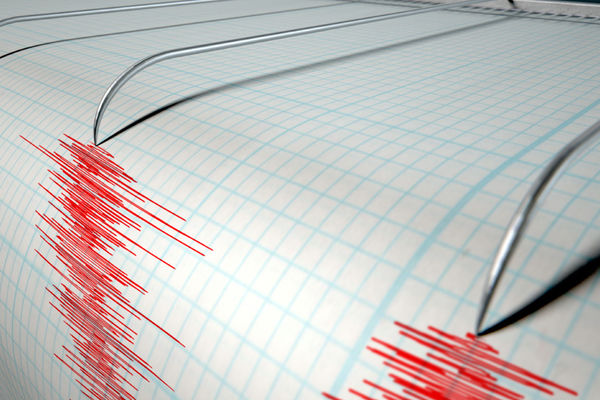Следующим утром дауны собираются ехать во Францию, но они еще не знают, существует ли в самом деле такая страна или она игра их расстроенного воображения. Дауны совсем близко, почти на границе, в маленьком бельгийском городке Арлон. Они остановились заночевать на центральной площади, в гостинице, в окна которой целится памятник — американский танк времен Второй мировой войны. Дауны допивают в номере остатки рейнского и заедают слезливым голландским сыром. Владелец гостиницы, бельгиец в опереточно-полосатом костюме, все-таки дал им штопор, притворно сияя, как казарменный пол, надраенный мастикой. Довольно быстро, кстати, выяснилось, почему он выкраивает на своем лице такие выражения: у него русская жена. Зовут, конечно, Наташа.
Никому не известно, какие бездны Создатель вкладывает в женщин. Но стоит иностранцу жениться на русской бабе, как он уже чувствует себя покорителем половины мира. Хорошо, если не сгинет потом без вести где-нибудь там, за горой любви, в долине печали.
Дауны гораздо менее решительны. Утром им предстоит пересечь воображаемую границу между остальным миром и Францией, и это делает их робкими.
Франция кажется даунам самой иностранной на свете страной.
Иностранной, то есть странной иначе, не так, как другие, совсем. Как и Россия, Франция вдохновляет даунов своими крайностями: как и в России, ничто во Франции не может быть сделано просто так. Всякая чушь должна быть доведена здесь до болезненного совершенства точно так же, как всякое совершенство Россия истово превращает в полную чушь. Звук, цвет, вкус, жест, взгляд — все чуждо, непонятно здесь даунам, но в то же время желанно ими, как сыр с плесенью, как забродивший виноград. Наверное, оттого, что Франция каким-то образом живет в каждом из даунов от рождения. Как стыд, тайное намерение, порок.
Стоит надеть что-нибудь нелепое, ляпнуть невпопад — и вот ты уже во Франции.
Она всегда так близко, что до нее почти невозможно добраться. Где-то на периферии зрения, за углом. Кажется, быстрее и надежнее всего оказаться во Франции при помощи косоглазия или заикания. На машине же можно ехать туда всю жизнь, но никогда не приехать.
Франция начнется только там, где на заправке вдруг скажут:
— О, месье! Дизэль — это сорт коньяка. Если вам нужно топливо, то это называется газоль.
Вот там, между соляркой и коньяком, между французским поцелуем и засосом спрятана настоящая граница Франции. Смогут ли дауны нарушить, потревожить ее, выяснится только утром, утро дауна мудреней. Сны туманят их мозг.
Сны, которые видят дауны, поначалу довольно запутанны и пестры. Будто бы дауны сидят на лошадках на детской карусели с розовым куполом.
Звенят бубенчики, и лошадки везут их по кругу куда-то в Нанси, любоваться помпезным золотом дворцовых оград и шуршать гравием аристократического парка. Но вот уже это и не Нанси, а маленькая площадь в Дижоне. Ямайские негры лупят в барабаны, играют рэгги.
— Простите, остался только один круассан, — говорят даунам лошадки.
— То есть как один? Сейчас ведь десять утра.
Лошадки пожимают плечами.
— А есть у вас тогда вот эти?.. — дауны забыли, как по-французски «устрицы». — Дайте нам их.
— Каких таких?
— Их. Чтобы свежие.
Лошадки фыркают и убегают.
И вдруг дауны ясно видят, что это не Дижон, а Марсель. Довольно нелепый, перекошенный, дерганый город, упоительно прекрасный, как и всякое половое созревание. Дауны никогда не бывали здесь прежде, но странно: они помнят это место с тех самых пор, как увидели первую женщину, как дым сигареты без фильтра «Шипка» в первый раз вывернул их наизнанку, с той самой минуты, как кипяченное в алюминиевой кастрюле красное вино «Лыхны» было названо «глинтвейном».
Прежде чем повзрослеть, каждый человек обязательно живет в Марселе.
Перед ним — гора, на горе — что-то святое. Под горой — прямоугольник старого порта. В порту, прижавшись друг к другу, тесно стоят яхты — гормоны со спущенными парусами. Вот-вот задует соленый ветер, разорвет счастьем грудь и пойдет гулять — между столиков кафе на набережной, между игривых взглядов, в тесные переулки, где подъезды домов зажаты витринами борделей.
— Бон суар, месье, — из полумрака на свет фонаря выглядывают голые коленки. По накрашенным глазам нельзя понять, вопрос это или действительно добрый вечер. Интересно: женщины становятся тем загадочнее, чем яснее понятия «вечер», «день» и «ночь». А Марсель — он по-прежнему никогда не спит. Его звуки лезут в окно, как бывшие одноклассники. Вот кого-то бьют, вот погоня, полицейские сирены, плач. Привезли пианино. Почему ночью? Подъемником затискивают его на третий этаж. Или, наоборот, крадут? Только утро может сделать тебя взрослее.
Но дауны не могут проснуться. Сон переносит их во Фрежюс. Кажется, что он построен кондитерами.
Дома-печенья жмутся к марципанам, эклерам и вафелькам. Наверняка за поворотом — калорийная булка с изюмом. Но нет. Площадка, засыпанная мелким гравием, почти что сахарным песком. На песке французские дедушки играют в петанк. Они молча кидают серые стальные шары в маленький деревянный шарик. С ними — доктор Чехов в форме пограничника. Он только что проиграл свое пенсне. Антон Павлович жалуется дедушкам на Россию: туберкулез, крестьянская тупость, бездорожье. Дедушки не отдают ему пенсне. Доктор Чехов ставит на кон свою пограничную форму. Слава богу, теперь некому будет охранять палату № 6.
Сумасшествие в России — лучший способ бегства из нее, внутренняя эмиграция. Когда ты лишаешься рассудка, в твоей голове французские дедушки тихо играют в петанк. Серые стальные шары ложатся все ближе к маленькому деревянному.
Тук! Дауны оказываются на краю пропасти. Это Grand Canyon du Verdon. Дух захватывает у даунов от красоты. Они стоят на скользких камнях, глядя вниз с верхней точки Большого Каньона на мутно-зеленую речку Вердон. Она петляет, зажатая скалами, режет их пеной, как мысль, которую нельзя ни высказать, ни понять. В каждой уважающей себя стране должна быть такая пропасть. Только стояние на ее краю позволяет почувствовать глубину падения и высоту замыслов. Как поступить с пропастью — вот вопрос, способный разбивать сердца и сплачивать нации. Впустить ее в себя, порвать себя изнутри бездной воображения? Или пустить себя в нее, головой вниз, об камни, с отчаянием и воем? И то, и то по-своему красиво. Красив Норильск, символ неравной борьбы человека и обрыва. В туалете норильского аэропорта один из даунов как-то прочитал надпись, сделанную в кабинке на уровне глаз человека, сидящего над пропастью орлом: «16 мая, 18.45. Я опаздываю на самолет».
Красив крошечный город Кастеллан, стоящий на каменных берегах Вердона. Дауны чуть не проснулись, когда во сне наводили справки о времени работы местного бара.
— Не знаю, как все, — ответила им женщина, крашенная в нетрезвую бывалую блондинку, — но я в этой сраной дыре работаю до часа ночи.
Интересно, который сейчас час? Дауны безмятежно спят. Мягкие бельгийские одеяла все плотнее укутывают их, каменея, превращаясь в подобие серых панцирей, морщинистых, изъеденных солью морей. Дауны сжимаются, сводя плотнее створки своих больных представлений о мире. И вот уже лежат они на прилавке, на городском рынке Ниццы, среди соломенных шляп, спаржи и первой клубники по три евро за килограмм. Совсем рядом шумят пальмы Английского бульвара, лазурный прибой целует камни и ноги зазевавшихся дам.
— Берите, берите, свежие… — кричит чей-то голос на незнакомом языке.
Huitres! Ну конечно! Huitres! Вот как будут «устрицы» по-французски! Дауны вспоминают слово, и в ту же секунду нож солнца врезается в раковину их сна, раздвигает щель сознания.
Дауны сопротивляются утру, из последних сил ежатся на перламутре простыней. Но новый день уже давит на них лимон суеты. Дауны расслабляются, обмякают, и реальность сжирает их без остатка, запив последней каплей белого рейнского вина.
Первое, что решают дауны за завтраком, — не ехать в Париж. Следующая чашка кофе приводит их к еще более важному решению — вообще не ехать во Францию.
Размеры этой воображаемой страны пугают их своей непредсказуемостью. В детстве, когда ты еще чист и открыт всем порокам, Франция — огромный блистательный мир, полный упоительных приключений. Однако с каждым нарушенным запретом границы этого мира сужаются, твердеют, пока наконец не станут устрицей или маленьким деревянным шариком в голове.
Встреча с собственной беспомощностью — чем не приговор?
Дауны допивают кофе и движутся дальше. До сих пор неизвестно, чем закончилась эта история с Францией. Сумели дауны пересилить себя или так и остались в плену собственных заблуждений — не нам о том судить. Не нашего ума это дело.
Дауны едут в Монако. Дауны едут на восток.

 Цивилизация
Цивилизация