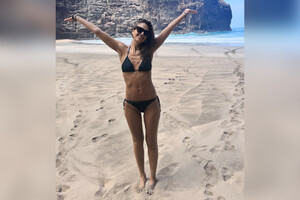Московская группа «Вежливый отказ» уже на протяжении 30 лет умудряется не вписываться ни в какие рамки — и в частности, в каноны пресловутого «русского рока», к которому по месту, времени рождения и составу инструментов ее вроде бы полагается относить. Музыканты на протяжении многих лет смешивают джаз и фолк, играют с формой и содержанием, получая на выходе вполне уникальное черт-те что, которое вроде бы удобнее всего называть джаз-роком. В начале нулевых группа на несколько лет прекратила существование в связи с тем, что лидер — Роман Суслов — погрузился в дела основанного коннозаводческого хозяйства. В 2006-м состоялся юбилейный концерт-воссоединение, после которого начался новый этап в жизни группы. В последние годы «Вежливый отказ» вышел на очередной виток — уже долгое время на концертах обкатывается совершенно новая программа «Военные куплеты», которую пока можно услышать только живьем — запись не планируется. Концерт 31 марта в клубе Yotaspace — очередной эксцентричный жест музыкантов, которые решили отметить большим выступление 31-летие. В преддверии выступления «Газета.Ru» побеседовала с Романом Сусловым о том, что все это значит.
— Дата не круглая, почему решили приурочить к ней большой концерт?
— Мы решили сделать такую историю с отмечанием дней рождения, каждый год. Как бы вопреки обычным представлениям о том, что в таком возрасте дни рождения не отмечают. С одной стороны, это повод пригласить людей послушать музыку, а с другой — способ себя дисциплинировать регулярными отчетными концертами в конце сезона. В основном сыграем песни, скажем так, последних лет. Ретроспективных вещей довольно мало, а если они и есть, то это те песни, которые мы реже всего играем. Кроме того, будет пара совсем новых композиций, которые мы еще никому не показывали.
— Можете что-то о них рассказать?
— Это опять такие, скажем, опыты. Я продолжаю задаваться вопросом, насколько можно деструктурировать текст и мелодию, насколько можно сделать ее парадоксальной, диссонирующей и вообще — когда прекратится ее жизнеспособность. Когда мелодия и текст перестанут восприниматься как некое явление, объект, сделанная вещь. У меня есть убеждение, что любое музыкальное высказывание, если оно выполнено искусно (не буду говорить «профессионально»), — если все музыканты играют так, как это написано, — является объектом искусства. И вот я пытаюсь это доказать. Сам себе (смеется). Мы берем какие-то совершенно избитые музыкальные формы, на них кладется банальный текст с какой-то тривиальной идейкой, и мы стараемся исполнить это складно.
— Я не совсем понял. Вы говорите о деструктуризации мелодии, но при этом работаете с готовыми штампами. Что имеется в виду?
— Ну, эта деструктуризация — в деталях. Если я говорю о штампах, то речь идет о том, что я использую куплет-припевную песенную форму с сольным куском какого-то инструмента. Это штамп. Кроме того, используется какая-то штампованная гармония. Но внутри этого развиваются парадоксальные и нелепые темы.
— А почему концертов вообще стало больше? От концерта во МХАТе десять лет назад, который вы играли в честь юбилея группы, было ощущение, что вам это не очень интересно. Сейчас все иначе?
— Да посвободнее все стало. Отношение к музыке стало свободнее — причем сама она совсем не стала проще, даже наоборот. У меня в какой-то момент просто возникла эта идея коллажирования музыкальных форм, которые не связаны между собой ни гармонически, ни ритмически. По сути, мы вживую воспроизводим то, что в диджействе делается одной кнопкой. Я таким образом пытаюсь подобрать комфортную для себя форму музыкального изречения. В разных жанрах мне близки какие-то элементы. Например, в рэпе мне интересны построение, артикуляция, текстовые формы, мелодические вставки. Но мне они кажутся недостаточно изощренными и, скажем так, язвительными. Там все по-честному, а меня везде очень раздражает честность. Мне необходим элемент обмана, это мое нутро, я иначе не могу. Мне нужно, чтобы было не «так», а «как бы так», это я и пытаюсь сделать.
— Почему этот обман так для вас важен?
— Это не то чтобы что-то ментальное или рациональное, скорее интуитивное. Мне видится, что так должно быть. Я иду от своего мироощущения. Мне важно, чтобы везде был вопрос «правда ли это?», сомнение, а не утверждение. В этом, по-моему, особенность музыки «Вежливого отказа».
— Последние несколько лет вы выступали с программой «Военные куплеты». В каком она сейчас состоянии?
— В ближайшем концерте будет много вещей оттуда. Более того, одна из новых песен, я думаю, завершит формирование этой программы, придаст ей цельный вид. Записывать я ее пока не собираюсь, пускай болтается по нашим музыкантам. Я всегда стараюсь обкатать песни на концертах, прежде чем записывать. Мне кажется, что там не хватает каких-то словесных форм, они пока у меня вызревают.
— Вы же в какой-то момент говорили, что вообще хотите отказаться от слов в песнях, заменив их отдельными фонемами.
— Да, мне кажется, это сильно упрощает дело. Когда ты просто пропеваешь себе под нос отдельные фонемы, они лучше и качественнее ложатся на музыку, чем любой текст. Встроить текст в существующее музыкальное пространство очень сложно, для меня то, что я делаю, — бегство, поиск простого решения.
— То есть вы не можете ответить на вопрос, что всем этим хотите сказать?
— Да нет, это такие маневры. Ни в коем случае не что-то выстраданное, выношенное, нет. Если я попадаю в какие-то нужные нервические точки, то чувствую себя очень хорошо. Это способ внутренней гармонизации, лечения от неврозов и недугов, которые накапливаются волей-неволей.
— Я про содержание спросил из-за того, что в какой-то момент в сети появились записи одной из новых песен «Мы победим», которую многие сочли чуть ли не гражданским высказыванием.
— Ха-ха. Ну, эта вещь достаточно лукава, чтобы в итоге не оказаться ни в каком лагере. У меня всегда было желание посидеть на двух стульях. А то и на трех.
— Расскажите, что у вас сейчас происходит помимо музыки? Ваш основной источник дохода по-прежнему фермерство?
— Ну да, семья, ферма, дети, лошади. В основном мы занимаемся прокатом лошадей. Люди приезжают, ездят верхом, останавливаются у нас на несколько дней.
— Вы ведь уехали в деревню не из мистических соображений, а для того, чтобы «не иметь ничего общего с государством». Получается?
— Абсолютно — нет, конечно, но я стараюсь всячески уменьшить контакты с государством. Они, разумеется, возникают — я все-таки уехал из страны только виртуально. Но я всячески стараюсь отъехать подальше.
— Вы не хотите иметь ничего общего именно с российским государством или вообще ни с каким?
— Ни с каким, да. Государство — это форма насилия над личностью, с этим ничего не поделаешь… Убежать нельзя, но можно подвинуться. Я поэтому и не меняю страны, хотя жена постоянно предлагает переехать куда-то, где лучше заниматься лошадьми. Там лучше, это факт. Но это как в том анекдоте про кротов: «Сынок, здесь наша родина». Мне противно большинство нашего народа, тошно слышать все, что говорят отовсюду, но только здесь есть что-то, что составляет эту самую любовь к родине. Климат, конечно, паршивый, но я там знаю каждую веточку, каждую травиночку — все приятно глазу.
— Со стороны ваша биография по-прежнему производит странное впечатление. Вы же были и остаетесь московским рафинированным интеллигентом, музыкантом и при этом в свободное от сочинения авангардной музыки время работаете, что называется, на земле, не жалея рук…
— Ну, мне кажется, это такое представление, сфабрикованное по незнанию объекта. Если копаться в этом более детально, то и не рафинированный интеллигент, и не авангардная музыка… Если полезть туда поглубже, то там много какой-то землистой натуры. Образование у меня инженерное, я с детства много чего умел делать руками, и встроиться в индустриально-крестьянскую действительность мне было довольно легко. Разве что физически приходилось поначалу тяжеловато — болели мышцы, вставать приходилось очень рано.
Но какая-то исполнительность, обучаемость, привычка к «деланию уроков» мне всегда были присущи.
Я сам ходил в школу, сам делал домашнее задание, тянул руку на уроках, чтобы ответить первым — мне это доставляло удовольствие. В деревенской жизни я тоже с легкостью принял то, что мне давалось в качестве «уроков». Я быстро начал делать то же, что и остальные деревенские, и не высовываться. Сейчас я уже меньше сам что-то делаю — только когда надо подменить моего наемного работника. Он у меня один — я в основном со всем справляюсь сам. Я же сам дом построил своими руками. И не один дом, кстати. Кроме домика, который я построил для нас с женой, я сделал такое большое строение — на первом этаже конюшня, на втором гостиница. Сейчас, правда, поскольку наша семья внезапно разрослась до четырех человек, нам самим пришлось переехать в эту гостиницу — занимаем потенциально сдаваемую площадь (смеется).
— Вы чувствуете, что в ваших песнях становится больше этой землистости? Музыка как-то меняется в соответствии с образом жизни?
— Так природность всегда там была. Просто раньше эта музыка была неумело сыграна. Сейчас проблема решена, так что все встало на свои места. Меняется скорее отношение к музыке, а не она сама. Мне кажется, что исполняемый мной мелодико-гармонический ряд всегда был одним и тем же — просто он варьируется в аранжировках. Мне бы, может, и хотелось сделать что-то иное, но похоже, что я не в силах (смеется). Есть какие-то тонкие мотивы, которые составляют мою сущность. Все попытки как-то от них отойти выглядят надуманными, холодными, холостыми, немузыкальными… Все, что я сейчас сказал, противоречит тому, что я говорил вначале, но так бывает.

 Цивилизация
Цивилизация