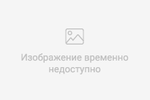Пауля Клее, одного из главных авангардистов ХХ века, проблематично объяснить через односложные определения или ходульные аналогии — он пролетел мимо всех классификаций, пропустив через себя дюжину важнейших направлений века. Его называли прародителем абстрактных экспрессионистов. При этом он писал кубические посвящения Пикассо, скалистые пейзажи и почти декоративные орнаменты.
На первую его выставку в Москве свезли больше 150 графических рисунков, акварелей и живописных полотен из Центра Пауля Клее в Берне — главного хранилища его работ и других собраний Швейцарии.
Рассказ о художнике проще всего собрать из пары-тройки расхожих сюжетов: учеба в Мюнхенской академии и первые пробы кисти — еще ощутимо отдающие символизмом однокрылые ангелы, забывчивые, плачущие, смеющиеся. Дружба с Василием Кандинским — оба учились у Франца фон Штука, но так и не познакомились, сойдясь только в 1911 году после первой выставки объединения «Синий всадник».
Путешествие по Тунису, из которого Клее напишет знаменитую фразу: «Цвет и я становимся единым целым».
С 1921 года он преподает в немецкой школе «Баухаус», скрупулезно сочиняя теорию формы и объясняя зависимость линии от среды, которую она рассекает: зависший в розовой дымке канатоходец («Над Парижем») не может быть написан так же, как барахтающаяся в цветочном орнаменте рыбешка («Волшебная рыба»).
На выставке говорить о Клее начинают с серии гравюр «Инвенции» — его «первого настоящего произведения»,
рифмой которому вдруг выступили разместившиеся по соседству «коронованные поэты» в лавровом венке и «электрические привидения» с розеткой вместо головы.
Эти гротескного вида куклы художник мастерил для сына.
В 1930-е акробатов, жонглеров и «канатных плясунов» в его рисунках — крошечные схематичные фигурки — сменят «угнетенные» и «высшие стражи». За один 1933 год Клее сделает почти 250 набросков — это сплошь нервная, густо заселенная графика, состоящая из извивающихся змеей линий.
Тоненькая песенка безумия, прорывающаяся сквозь эти рисунки, особенно громко зазвучит в позднем его творчестве.
Таким был ответ художника пришедшим к власти нацистам, которые объявили его «инфантильным идиотом», громили и обыскивали его мастерскую.
На легендарную пропагандистскую выставку дегенеративного искусства, которая в 1937 году гастролировала по Германии с изъятыми у музеев «вредными» произведениями модернистов, угодили аж 17 его работ.
До этого Клее уже был уволен из Дюссельдорфской академии искусств якобы за «некомпетентность» и был вынужден вернуться в Швейцарию.
Обычно художника сравнивают с Пабло Пикассо и Василием Кандинским, но и та, и другая аналогия, конечно, выглядят натяжкой. Возможно, потому, что его полудетская, взвинченная графика немного затерялась на фоне их грандиозных экспериментов. В его работах выискивают «переложение музыки» — влияние мамы-певицы и отца — преподавателя музыки, вспоминают «квадраты и крючочки» из стихотворения Арсения Тарковского, посвященного Клее.
На деле свой примитивный графический словарь он заимствует у детей, дикарей и сумасшедших, увлекшись наскальными рисунками и мазней душевнобольных.
К визуальной сложности он пробирается через сбивчивые линии и кляксы, конструкции из случайных форм.
Больше всего графика Клее напоминает компьютерную схему. Собственно «мясо», из которого должно быть выстроено художественное пространство, в его рисунках отсутствует. На его место
приходит линия — резкая и прерывистая, по мысли художника, рожденная не из множества точек, а из движения одной-единственной.
Появление и разрушение формы переживается «здесь и сейчас» и ощущается почти физически. Отсюда и интерес Клее к циркачам: он исследует шаткое равновесие, секунду до срыва — нарисованного крохотного канатоходца в пропасть или руки художника.
Его пунктиром намеченные марионетки и балансирующие на нитке канатные плясуны вызывают в памяти скульптуру тающего на глазах «Шагающего человека» Альберто Джакометти. От этого изображения, кажется, не осталось почти ничего материального: образ рождается, искажается и рассыпается на глазах у зрителя.
В 1935 году Клее заболевает и, подгоняемый недугом, к 1939 году создает больше 1250 произведений, которые, как он писал сыну, требовали выхода «на свободу».
Правда, такой рисунок не думает о зрителе и избегает диалога с ним — точно так же, как растерявшее свое значение слово в стихотворениях поэтов-авангардистов.
Впрочем, Клее, который один из первых начал вписывать в свои композиции буквы, ноты, стрелки и цифры, кажется, и не стремился создать полнокровное повествование. Сюжет в его фигуративных работах подменяет набор иероглифов — не символов даже, а случайно оставленных следов, знаков, из-за которых его работы никогда не превращались в чистую абстракцию и пустое любование формой. Поэтому такую выставку стоит рассматривать как разговор о возможностях живописи на языке Клее — не только художника, но и теоретика, который твердил о произведении, растущем, как дерево, и о хаосе как «наиболее естественном начале».

 Цивилизация
Цивилизация