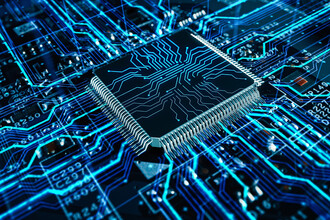Каннский лауреат и один из самых заметных деятелей российского кино, сценарист и режиссер Юрий Арабов в своем творчестве обходится без нецензурных слов, однако во вступившем в силу «законе о мате» видит продуманную политику Минкульта, целиком ориентированную только на госзаказ. Написанный им для Кирилла Серебренникова «Чайковский» едва не остался без господдержки, но другие проекты по сценариям Арабова получили от Минкульта зеленый свет: завершились съемки «Орлеана» Андрея Прошкина и «Клетки» Эллы Архангельской. Юрий Арабов рассказал «Газете.Ru» о своих новых работах, госзаказе в кино, романе «Столкновение с бабочкой» и о том, почему искусство выживет без мата.
— Ваша фильмография насчитывает три десятка фильмов и несколько сериалов. Ваш стаж в кинематографе — более 40 лет. Расскажите, в какой период в кино было хорошо работать?
— Думаю, для отечественного кинематографа хорошие были 1980-е годы, а точнее, с 1985-го по 1989-й — именно в это время в кино практически отсутствовала цензура и оно получало неплохую материальную поддержку от государства. В 1990-е годы, когда госфинансирование отсутствовало, кино существовало за счет небольших денег от бизнесменов средней руки, грубо говоря, продавцов гвоздик... Лично у меня ностальгии по прошлому нет, и своим наиболее удачным периодом я считаю последние несколько лет, когда я начал что-то понимать в этой профессии, более осмысленно работать, а значит, и в большей степени отвечать за сценарий, чем раньше.
— В каком виде искусства вы наблюдаете сейчас кризис?
— На мой взгляд, литературы как вида искусства, формирующего общественное мнение, сегодня не существует. Хотя в советский период еще были авторы, к которым прислушивались власти, а их произведения во многом определяли гражданское сознание, сейчас это все потеряно. Конечно, у нас есть неплохие литераторы, весьма способные ребята, они создают любопытные тексты, но, как правило, сами авторы интереснее того, что они пишут. Я не отделяю себя от этой компании. В любом тексте я, как говорится, выкладываюсь и конъюнктурой в узком смысле слова не занимаюсь.
— Вас знают как человека с активной гражданской позицией: вы не боитесь публично высказывать свое мнение о состоянии российского кино или на текущие политические темы. К вам прислушиваются?
— Смотря на каком уровне. Обычные люди прислушиваются, а вот, скажем, власти меня в общем-то не слышат. Впрочем, я здесь не исключение. Какой разговор может быть с властью? Если вокруг льгот и финансирования — это абсолютно понятная для чиновников тема, но, как только заговоришь с ними не про деньги, а, допустим, про вырубку лесов или про то, что нашему кино и культуре в целом не хватает режима особого благоприятствования, — с подобными вопросами до них не достучаться.
— Кажется, вы уже несколько лет публично высказываетесь о необходимости принять закон о том, чтобы частный бизнес получал налоговые льготы за вложение денег в искусство и культуру. Неужели ни у кого не получаете поддержку?
— Нет, не получаю. Я сначала думал, что здесь проблема в ушах, но сейчас понимаю, что это скорее продуманная политика: чем люди согбеннее, покорнее, тем меньше от них можно ждать различных «культурных» эксцессов. Меня это не удивляет. Моя молодость прошла в обществе тотальных запретов, мое поколение к ним привыкло... К слову, наша первая картина с Александром Сокуровым «Одинокий голос человека» вышла на экраны почти через десять лет после того, как была снята, и это довольно типичная история для того времени.
— Министр культуры РФ Владимир Мединский в свое время заявил: «Пусть расцветают все цветы, но поливать мы будем те, что нам нравятся. Либо те, которые считаем нужными». На ваш взгляд, как отразилась эта политика Минкульта на кино?
— Прежде всего, это право государства выбирать, кому давать деньги из бюджета. Кроме того, госзаказ был, есть и будет всегда, я при нем рос и матерел… Другое дело, а вырастет ли что-либо без полива из лейки Минкульта? Тут мы и подходим к вопросу, почему нужны частные деньги в кино, ведь проблема в том, что, кроме госзаказа, может не быть ничего другого. Культура ведь госзаказом не исчерпывается.
Культура — это прежде всего способность видеть связи в мире — связи между людьми, связи человека с историей, с обществом, с космосом — и формулировать это в артефактах.
Политика роз и ромашек, выгодных и невыгодных фильмов оскопляет культуру, делает ее хилой и сугубо домашней. Вынеси такую «культуру» из уютного дома министерства и подставь под свежий ветер — она и умрет от пневмонии. Поэтому проблема не в том, что есть госзаказ, а в том, что вне госзаказа мы сможем снимать фильмы только на мобильные телефоны.
— Что вы думаете о законе, запрещающем использование ненормативной лексики в СМИ и произведениях искусства?
— Это пугает молодых, непоротых. Мое поколение на это вообще никак не реагирует, пожимает плечами: мы привыкли к подобным запретам. Уверяю, это не самое худшее. Ну не будет мата на экране — и что? Мир остановится, солнце погаснет или перестанут делать плохие картины? Увы, не перестанут. От присутствия или отсутствия мата, а также от его этажности художественные достоинства того или иного фильма не зависят. К этому нужно относиться спокойнее. Вместо того чтобы матюкнуться, герой просто промолчит и сплюнет. Возможно, это даже более выразительно.
— Используете ли вы нецензурные слова в своем творчестве?
— Для меня мат — это слишком просто, а я противник простого. Я за то, чтобы чесать левое ухо правой рукой. Мне гораздо интереснее заменять нецензурные слова всякого рода непрямыми вещами — эвфемизмами, филологическими изысканиями и всевозможными параболами.
— Употребляете ли мат в жизни?
— Естественно, употребляю. В основном по отношению к себе, но иногда крепкие слова все-таки вырываются и в отношении других. Тем не менее я не собираюсь тащить это на экран, в литературу, именно потому, что это слишком легко. В то время как есть обходные пути, не работающие в лоб, не лежащие на поверхности. У художника должно хватать воображения на нечто большее, чем «пошел-ты-на…»
— Вы постоянный автор Александра Сокурова, а что для вас значит сотрудничество с другими режиссерами? В том числе с Кириллом Серебренниковым, который резко и радикально выступает против запрета на мат на сцене?
— Для Кирилла мат — одна из красок художественной палитры. И надеюсь, мы все-таки его удержим от отъезда нематерными словами и действиями. Кирилл хорош, когда он в своей стихии художественных провокаций на грани фола. Конечно, языковое выхолащивание для него удар, но, надеюсь, не самый большой.
Для меня работа с Кириллом Серебренниковым и Андреем Прошкиным — свидетельство того, что я, как сценарист, интересен режиссерам более молодого поколения. Это важно для человека, который помнит всех министров культуры и кинематографии со времен Хрущева... С Александром Николаевичем Сокуровым, я надеюсь, у нас неразрывная связь и многолетняя дружба. Сейчас он художественный руководитель проекта «Русские жены», посвященного гражданскому террору в Албании со стороны Энвера Ходжи.
Первая волна этого террора пришлась как раз по русским женщинам, вышедшим замуж за албанцев. Почти все русско-албанские семьи сгинули в концентрационных лагерях на севере Албании.
Это неизвестная страница в европейской истории второй половины ХХ века. Русские деньги от Минкульта на эту картину мы получили и ждем европейских. Если они не подойдут, то интересный материал и замысел можно будет сдать в архив.
— Долгое время вы были единственным российским лауреатом Каннского фестиваля за лучший сценарий, в нынешнем году эта награда досталась Андрею Звягинцеву и Олегу Негину. В 1999-м, когда этот приз вручили «Молоху», Александр Сокуров даже покинул зал, считая этот приз утешительным...
— Прежде всего, я поздравляю своих коллег, теперь нас трое — и мы можем сообразить на троих. Что касается того, насколько этот приз важен... В какой-то степени это действительно утешительный приз, но, безусловно, значимый и ценный.
Конкретно с «Левиафаном» — я считаю, что на Каннском фестивале картину слили.
Дело в том, что я сам входил в состав жюри другого крупнейшего кинофестиваля — Венецианского — и немного с этой кухней знаком. Фильм Звягинцева показывали в последний день конкурса, а это значит, у отборщиков он имел самый высокий рейтинг. «Золотую пальмовую ветвь» картине не дали, в том числе, возможно, по политическим причинам, но в то же время ее нельзя было не отметить. Вот и выделили литературную часть, игнорируя кинематографическую. Кстати, приз за лучший сценарий присуждается не каждый год. Видимо, когда на фестивале возникают сложные ситуации, жюри вводит эту номинацию. С «Молохом», я думаю, была та же самая история.
— Как вы считаете, насколько современное русское авторское кино востребовано в мире?
— На крупнейших мировых фестивалях ждут Сокурова, Звягинцева и Михалкова. Есть еще пара имен среди молодых, у кого есть небольшие шансы протиснуться в высшую лигу. Но нужно иметь в виду, что сейчас мы находимся в ситуации «холодной войны» с Европой и Америкой, поэтому рассчитывать на то, что Запад будет носить на руках того же Звягинцева, не приходится. Отношение к нам достаточно жесткое. Если мы понимаем культуру как связи, то вне связей с Западом культура тоже будет оскопленной.
— Кстати, у вас тоже планировалось несколько совместных проектов с Европой, почему они не сложились?
— Хороший немецкий режиссер болгарского происхождения предложил мне написать экранизацию повести «Кроткая» Достоевского. Сценарий ему понравился, но, когда дело дошло до непосредственно съемок, выяснилось, что на проект получена только сумма от нашего Минкульта, а европейской части денег нет. Режиссер не захотел работать в таких условиях — за треть гонорара и в ситуации, когда на съемках нужно экономить каждый цент. А мы, романтики, взялись за этот проект, получивший название «Клетка», нашли единомышленников, согласившихся работать практически на голом энтузиазме. В результате продюсер Элла Архангельская стала режиссером, а я отчасти креативным продюсером, давая указания и временами присутствуя на съемочной площадке. Наверное, именно так, на энтузиазме, без денег, снимались первые немые фильмы. При таком производстве в основном одни минусы, но есть и жирный плюс: в доисторических условиях картина снята.
— Если судить по вашим прошлым экранизациям, например «Фауста», у вас получаются даже не вольные пересказы классических текстов, а принципиально другие сюжеты. «Клетка» — это тоже новый взгляд на повесть Достоевского?
— Не знаю, не мне судить. Ясно, что это вольная экранизация с введением нового персонажа и изменением фабулы. Это история об отсутствии любви между людьми, о том, что смирение и кроткость точно такое же острое оружие, как и жестокость, ими можно уничтожить человека. И если вы не любите, то вы не семья, не любовники, вы вообще не христиане. Христиане без любви… Об этом наша «Клетка».
— В своем новом романе «Столкновение с бабочкой» вы рисуете довольно устрашающий облик государства: «Любое государство в известной нам истории есть вампир и василиск. Оно — Каменный Телец, перед которым расшибают до крови лбы в поклонах и простужаются до воспаления легких на его каменных ступенях». Андрей Звягинцев в своем последнем фильме подбирает примерно такую же метафору для государства — Левиафан. Получается, единственный возможный здесь сюжет для человека — вызов Левиафану?
— Когда Адам и Ева были безгрешны, не нужно было никакого государства. Государство при всех своих грехах есть сдерживающий фактор бесконечной гордыни человека. Другое дело, грехи государства часто превышают грехи отдельного человека, а, точнее, государственная спесь порождается спесью отдельных граждан. Роман «Столкновение с бабочкой» — это альтернативная история ХХ века. Это утопия об общественном компромиссе. Русская история бескомпромиссна. Мы рвем друг другу глотки, уничтожаем друг друга физически и морально и хотим на этом пути что-либо поиметь, на чем-то нагреть руки. Но руки мерзнут, русская бескомпромиссность оборачивается одиночеством и отчаянием. Мой роман — призыв к компромиссу со стороны власти к обществу и со стороны общества к власти — то, чего в России никогда не было и, может быть, никогда не будет. Я говорю о современности с помощью теней прошлого.

 Цивилизация
Цивилизация