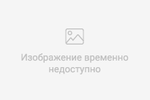— Многие от вас, как от режиссера одного из главных фильмов ужасов нулевых «Сайлент-Хилл», ждали в «Красавице и чудовище» мрачную ревизионистскую версию старой истории, а вы сняли костюмное в цветах кино с шаловливыми домовыми. Как так вышло?
— Все-таки надеюсь, что мой фильм не смотрится так, как голливудские фильмы, а продвигает идею волшебной сказки. Когда снимаешь сказку, нужны все элементы, которые в ней всегда присутствуют: какие-то мрачные, тревожащие моменты, но в то же время прекрасные, светлые. Потому что и те, кто делает из сказок мрачные истории, как «Белоснежка и охотник», и те, кто смотрит на сказки иронично, отказываются от того, что есть сказка, в пользу каких-то собственных идей. Они не пытаются объять все, что есть в этом понятии. Моей же идеей, когда я создавал этот фильм, было взять не только мрачную, страшную составляющую сказки, но и показать прекрасную историю, историю любви. К тому же после «Сайлент-Хилла», который все-таки мрачноватое кино, я хотел сделать фильм о мечтах, о сне.
— Поэтому «Красавица и чудовище» кажется старомодной, ностальгической? В ней прямиком показано, что эту историю читает мама детям, в ней книжные иллюстрации с божьими коровками выполняют роль пауз.
— Да. Мне, например, кажется, что сказки — это и есть то, что все-таки слушают дети. И я попытался себя поставить на место ребенка, который слушает эту сказку. Хотя на самом деле в финале мы видим, что эта история, она через этих двух детей разрешается не самым очевидным образом. Конечно, это классический прием — рассказывать сказку через персонажей, которые совпадают с детьми, которые ее слушают. Но мне кажется, в конце я нашел новое решение, когда раскрыл этого персонажа, Чудовище, дал ему новое прочтение. Но главный для меня персонаж — Красавица, потому что это история девушки, юной девушки, которая превращается в женщину.
— Мне показалось, что это история про то, как решительная девица укрощает, если не сказать дрессирует, грубого мужика, этакое «Укрощение строптивого». Вы хотели показать героиню Леа Сейду героем-воспитателем?
— Это в какой-то степени роман воспитания, да. Я использовал уже эту историю в «Плачущем убийце» (фильм Кристофа Ганса 1995 года по мотивам популярной японской манги. — «Газета.Ru»): там девушка становится свидетельницей убийства, понимает, что совершивший его человек вернется, чтобы убить и ее тоже, но этого не происходит, а происходит нечто обратное. Там героиня тоже смогла преодолеть какое-то лежащее на чудовище проклятие и полюбить его. И, кроме того что эти два фильма так совпадают, это еще и истории, которые похожи на историю Джейн Эйр — девушки, которая полюбила человека, который любил до нее другую девушку.
Собственно, для меня все эти истории — это истории о женщинах, появление которых решает любые конфликты. Все время к этому возвращаюсь.
— А почему герой Венсана Касселя похож на льва? И в диснеевском мультфильме был лев, и у Жана Кокто, еще раньше, тоже. У нас есть своя версия, «Аленький цветочек», в которой чудовище больше похоже на существо из мира Миядзаки, а лев — это традиционное что-то для этого персонажа?
— У Диснея это существо… больше бизон какой-то. А у Кокто, да, конечно, больше похоже на льва. На самом деле мне нравится версия чешская, которая была сделана в 1978 году. Там, например, Чудовище больше похоже на орла, что вполне конкретно отсылало к символу Австро-Венгерской империи. И мне казалось, что вот мое чудовище должно быть львом, потому что лев — это тот, кто символизирует последние империи, имперскость, так сказать. И если вы приедете в Париж, то там вокруг расставлены одни каменные львы — но это такой символ могущества, который все-таки уходит в историю. И еще я выбрал льва, потому что кошачьи это животные, которые интересны, они привлекательны, соблазнительны.
— А как у вас вообще была устроена работа над образами, над художественным миром фильма, над тем, как выглядят герои, как выглядит пространство? То есть как вы работали с художниками?
— Для начала я весь фильм полностью нарисовал — сделал детальную раскадровку еще до того, как начал работать с группой. И когда я подбирал людей, которые должны были войти в команду, я всем давал смотреть эту раскадровку. Таким образом, над фильмом потом работали люди, которые знали, чего я от них жду, видели уже перед собой картинку. И хотя вся раскадровка была черно-белой, я сделал выборку примерно из ста кадров, где показал цветовое решение этого фильма, то, каким оно должно быть. В этом есть что-то от того, как мультфильмы делают. И все люди, которые со мной потом создавали этот фильм, добавляли что-то к тому, что у меня уже было. Получилось, по-моему, неплохо.
— А как много в вашем замысле комедийного? То есть линия с завистливыми сестрами определенно комедийная. А фрагмент прошлого, в котором фигурирует обнаженная женщина со стрелой в груди, вроде бы нет. Но в Берлине, например, зал очень смеялся в этот момент. Так задумано или, наоборот, такая реакция зрителей кажется вам странной, смущает?
— Я не видел картину в Берлине, но… Но на самом деле и смешное, и печальное, повторюсь, это части сказки. Конечно, сестрицы Красавицы или собачки смешные (нарисованные на компьютере волшебные помощники Чудовища. — «Газета.Ru») — это комедийные элементы. Но в фильме есть и серьезная драма. Мне кажется, что кино — это способ расширить границы жанров. Надо идти как можно дальше в своем творчестве. Поэтому пусть смеются там, где я не планировал смеха, это не страшно. Потому что все режиссеры, которыми я восхищаюсь, очень верили в свои истории. И я верю — я же сказал уже в начале разговора, что мне не нравится ирония в кино, в кино все должно быть по-честному.

 Цивилизация
Цивилизация