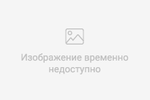В Московском музее современного искусства проходят «4 выставки» — ретроспектива Михаила Гробмана, одного из первых художников «второго русского авангарда» и автора самого этого термина. В 1971-м Гробман эмигрировал из СССР с намерением основать новое искусство Израиля. Созданная им группа «Левиафан» оказалась для израильского искусства настолько же авангардной, насколько было неофициальное искусство для номенклатурного МОСХа — которое тогда с опозданием копировало американские течения. Михаил Гробман рассказал «Газете.Ru» о том, как он начинал строить новое еврейское искусство и что из этого вышло.
— Буклет к выставке в ММСИ называет вас «известным израильским художником». Действительно, в сегодняшней Москве литературный журнал «Зеркало», который вы издаете в Тель-Авиве вместе с Ириной Врубель-Голубкиной, известен больше, чем ваши работы. Сейчас открывается самая крупная из ваших выставок на исторической родине?
— На сегодняшний день — да. Здесь в музее целых четыре моих выставки. Куратор Леля Кантор разделила работы по периодам: Москва доотъездная, начало группы «Левиафан», затем 90-е годы и то, что я делаю сейчас. Первая моя за много лет выставка была в 1998 году в Русском музее, потом еще «Метаморфозы Коллажа» в музее на Петровке — года не помню. Цифры — это смерть.
— Неужели? Вы часто используете текст в коллажах и живописи и обходитесь без цифр?
— Главный упрек, который я слышал от многих, — в моих картинках очень много смерти. Но делать новое искусство — это своего рода героизм. Героизм всегда влечет за собой смерть. Потом новые поколения воспринимают историю через вот такие дела — смерть героя, который превращается в миф.
— Группа «Левиафан» — это миф?
— Левиафаны — это вещь, которая существует в самых разных видах в культуре. Весь вопрос в том, что мы имеем в виду. Если речь идет о красоте мифа или классике, которая влечет за собой новую волну мифологии, то, конечно, да. А группа «Левиафан» — с ней совершенно другая ситуация. Вообще мне на сегодняшний день не хотелось бы углубляться в рассказы о группе «Левиафан», потому что это явление очень важно для израильского искусства и для меня тоже, но это — прошлое. Оно завершилось. Сейчас все уже другое. Конечно, многие интересуются всей этой мифологией, которая накопилась вокруг нас. Я собираюсь написать книгу о «Левиафане», но пока не до этого, потому что это как писать о самом себе воспоминания. Не то что бы прошло-проехало, «Левиафан» существует, но… иначе.
— Сменилась историческая ситуация и нужда в строительстве еврейского искусства отпала или выработан ресурс?
— Это самая легкая и простая вещь — выработать ресурсы. Нет, но очень многое изменилось в Израиле. На сегодняшний день нужно такое искусство, которое задержалось бы на месте, заставляло задуматься, может быть, рассердиться, даже ненавидеть. Раньше у «Левиафана» была тенденция мифологическая, религиозная в определенной степени, а сегодня нужно заниматься живым материалом.
Сейчас это политика, общественные идеи, представления о том, каким образом мы должны бороться с такими замечательными вещами, как политкорректность или социал-демократия, которые выработали свои ресурсы.
— В первом манифесте группы вы писали, что новое израильское искусство должно основываться на сионизме. Вы понимали сионизм не как политическую силу, а как объединяющую национальную идею?
— Естественно, мы толком тогда ничего не знали о сионизме, что не мешало нам многие вещи оценивать достаточно грамотно. Сионизм — это не идеология, это просто возможность видеть новое поколение еврейского народа с другой психологией, другим пониманием вещей. Но это отдельный разговор, что у них получилось. Меня интересовала новая философия в искусстве, и я уезжал с целью создать новое понятие о еврейском искусстве. Я не знал, что вступаю в борьбу с «цепным псом коммунизма». Все тогда были левые.
— Не обязательно читать ваш манифест магического символизма, чтобы увидеть, что основная характеристика этого нового искусства — отказ от иллюзорности, от реалистических принципов.
— Это очень важно! Дело в том, что искусство всегда так или иначе делилось на две категории. Иллюзорное, о котором Гете еще сказал: вот рисует человек мопсика, и теперь у нас будет два мопсика. Но если мы говорим об искусстве как важном факторе мысли и строительстве формы, то мы быстро начинаем открывать для себя новые, характерные возможности, которые используют, скажем, футуристы. Но футуристы — это почти наши времена! А до этого было искусство Средних веков. И были причины, почему людям больше понравились иллюзорные существа, которых начали рисовать в Ренессансе. Это понимание нарисованной вещи совпадает в разных эпохах у разных людей.
— Это что-то фрейдистское — желание обладать предметом, символическое присвоение?
— Не символическое, а совершенно конкретное. Это ситуация, при которой мы приобретаем. Люди буржуазного времени — а буржуи уже победили всех других людей — стали задумываться: вот лес я купил у соседа, речку купил, как бы мне Уральские горы купить. Многим не хватало. А дальше просто. Как твоя фамилия? Репин? Мне море нужно. Хорошо, будет море, нет проблем. И рисовали прекрасное море. И человек, который любил это море, каждый день видел его дома. А магический символизм строит свои картины без фальшивого якобы присвоения мира, и оказывается, что далеко не все, что является активным или полезным в наши дни, удерживается в искусстве.
— Существует ли сейчас та мифогенная среда, которую вы рассчитывали создать, уезжая в Израиль?
— Идея была грандиозная. В некотором роде она напоминала идеи, разбросанные в лозунгах на стенах Сорбонны. «Будьте реалистами, требуйте невозможного». Победить я не победил, это невозможно просто. Но проиграть я тоже не проиграл. Я просто создал определенную среду, которая поможет будущим поколениям увидеть, как и чем жили люди до них. Почему «Левиафан» не мог победить окончательно и бесповоротно? Для такой позиции нехарактерна вообще ситуация победы, потому что человек не может победить сам себя. Все это варево, в котором мы находимся, существует для того, чтобы его ели люди не самые умные на свете. Но и не самые глупые. Это такая средняя ситуация.
В любой дисциплине есть такая синергия, победить которую нельзя.
Можно с ней бороться, но убивать же не будешь — это противоречит самой форме борьбы. Но тем не менее что-то с людьми происходит, когда они наталкиваются на вещи, которые сами, возможно, пытались осознать. Получается так, что всегда и везде мы живем в мире стандартности, стандартных людей.
Я не говорю сейчас о человеке с кислой такой миной, но просто те, которые являются потребителями культуры, иногда в культуру влезают, чтобы получить какие-то привилегии, не всегда материальные, может, потом исчезают. Победить таких людей невозможно. Но определенная доля правды в этом супе необходима.
Мы видим страны, где этого не происходит, общества, в которых нет этой борьбы.
Можно что угодно отрицать или защищать, но факт остается фактом: люди живут в стандартных, узких пещерках, и другого они не то что бы не хотят — не понимают. Это условия, в которых работает, как тогда «Левиафан», практически каждый художник и писатель.
— Вы стояли у истоков того вольного, не зависимого от Союза художников брожения, которое развернулось вскоре после вашего отъезда. Позже эту полуподпольную активность стали называть «другим искусством». Не было сожалений, что вы не участвуете в московской жизни?
— Начнем с того, что «другого искусства» не бывает. Есть или искусство, или не искусство. Я писал достаточно много о том, что представляет собою ситуация рисования картин, писания сочинений. И связь с приятелями и друзьями всегда была. Конечно, когда мы уехали, мы оторвались от того, что происходило в Москве. Но я не могу сказать, что хотел участвовать в этой тусовке. Меня интересовало, что они делают, но быть частью я не хотел. К тому времени я довольно быстро осознал место, которое мы занимаем в мире. После смерти Сталина отношение КГБ было еще старым, но не таким опасным. Если во времена Сталина змей проглотил до самой шеи все, что могло как-то творить, то в наши времена оставалось на свободе побольше. Мы видели, что уже никого не будут трогать. Люди могли свободно говорить то, что они хотят. Не пропагандировать, это каралось, но говорить — да. За кухонные разговоры перестали сажать. К памятнику выйдешь — неприятности. Но человек создан таким образом, что у него всегда желание свободы, инстинктивное.
— Но чтения под Маяковским все же разогнали.
— Я читал там свои стихи в 1958–1959 году. Даже сохранилось одно стихотворение, которое я читал там. Наивное, конечно. Я помню, как читал его, опершись на плечо Володи Гершуни (советский поэт и диссидент, осужденный по обвинению в созданию подпольной молодежной организации. — «Газета.Ru»). Там у Маяковского был такой самостоятельный, несанкционированный выброс энергии. Туда ходили все — комсомольцы, мальчики, девочки. Потом это все получило характер некой зубатовщины — попытка создать среду, которая была бы, с одной стороны, революционной, а с другой — не «против царя». Это не было провокацией, но… было очень на нее похоже. Когда я увидел, что у памятника Маяковскому начинается политика, я понял, что дела такого характера — это неинтересно. Появились сомнительные люди, и я перестал туда ходить. К тому времени, как там арестовали Илюшу Бакштейна (в 1961 году арестовали «за антисоветскую агитацию и пропаганду» Вл. Буковского, Э. Кузнецова, В. Осипова и И. Бакштейна, участников собраний на площади. — «Газета.Ru»), я уже отошел довольно далеко, потому что было совершенно ясно, что это обоюдная глупость. Это был шок для всех — Бакштейн болтун большой был, но арестовывать его в качестве врага советской власти просто смешно.
— Это важный элемент нонконформистского мифа — смелое противостояние и неусыпная борьба с совком.
— С советской властью никто не боролся. Художника интересовали дела творческие, а не беготня и антикоммунистическая пропаганда. Все это интересно и забавно, все это диссидентство.
Но меня лично всегда отталкивало от этой группы диссидентов то, что они были абсолютно неразвиты в области изобразительных дисциплин или литературных.
Потом мы увидели в эмиграции это особенно четко. Разницы между эстетикой эмигрантов и белогвардейцев не оказалось никакой. Эти ничего не понимали и те. В 1965 году я напечатал под псевдонимом Михаил Русалкин в альманахе «Воздушные Пути» (очень известный альманах американский) несколько стихотворений. Я их передал через третьи руки. У меня до сих пор хранится письмо редактора Владимира Маркова, который писал одному из моих доверенных лиц, что стихи понравились, все хорошо, но очень трудно напечатать модернистские стихи, поскольку все властители дум эмиграции чрезвычайно консервативны. Я видел очень много эмигрантских судеб, так вот эта эмиграция 60–70-х не дала культуре практически ничего, никакого развития. Это были советские люди, которые почему-то поссорились с советской властью. У кого-то обида на Союз писателей, у кого-то другие бытовые причины.
— Очень показателен венец карьеры Солженицына.
— Когда-то Померанц написал статью с легкой критикой Солженицына. Гершуни принес мне почитать, а на следующий день забрал, потому что Померанц решил ее не распространять. Было такое понятие — не дробить силы. Ну а я был абсолютно свободен от всех дел диссидентов и в 1962 году напечатал две статьи о шовинизме Солженицына, о его философской и эстетической недоразвитости. Эти статьи произвели гром, будто произошел взрыв небольшой бомбы. Меня тогда называли Геростратом. Но вот мы беседуем и не можем оторваться от темы диссидентства. Знаете, вся надежда только на молодое поколение, для которого эти события не так живы.

 Цивилизация
Цивилизация