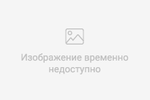Сложносочиненное название — цитата из популярного в узких кругах философа Михаила Лифшица, радикального критика современного искусства. Который, в свою очередь, цитировал Бальзака. Для Гутова, который не только художник, но и искусствовед, такой многослойный смысловой квест привычен — и любим.
Новые скульптуры Гутова, если смотреть сбоку, ничем не отличаются от других его серий последних лет. Предыдущие серии, «Рисунки Рембрандта», «Портреты композиторов», «Иконы» — точно так же, как новые вещи, — в профиль кажутся хаотическим переплетением гнутой арматуры и железных полос.
И точно так же есть единственная точка зрения, при которой все эти работы отбрасывают маскировочную сеть и из ржавого лома или абстракции — как кому больше нравится — оказываются изображением.
Точнее, железной копией изображения, известного зрителю из истории искусств.
В этой топологической игре Гутов достиг большого мастерства. Как последовательный марксист (и, возможно, единственный московский художник, который не путает его с поп-марксизмом) Гутов иллюстрирует тезис «Учение Маркса всесильно, потому что оно верно». Требуется сдвиг парадигмы — в данном случае перемещение в пространстве — чтобы увидеть единственно истинное изображение в куче подвешенного к потолку железного мусора.
И так же необходимо вскрыть кучу интеллектуального мусора, отбросить поп-культурные шоры, чтобы увидеть за ажурной картинкой образ.
Продолжение железной серии все глубже утягивает Гутова в глубины истории. После Рембрандта и икон
темой новой выставки стали росписи античных ваз, взятые в очень узком ключе. Из многообразия античных картинок Гутов выбрал только эротические сцены.
Даже слишком эротические: откровенные забавы свободных греков и гречанок не прошли бы цензуру в скандальном еженедельнике «СПИД-Инфо».
Часть экспонатов — так же сваренные из железной путанки копии рисунков Пикассо на древнегреческие мотивы.
Как правило, сценки отношений между полами являлись частью фризового орнамента греческих сосудов, но Гутов выделяет их в отдельные вещи. Этот формальный подход адаптирует античное наследие для современного человека с его комиксным мышлением, избавляет его от необходимости интерпретации «несовременного» сюжета. И в то же время Гутов придает ему глубину. Вслед за Владимиром Фаворским, который понимал бумагу или холст как предмет, Гутов наполняет архаичную сценку массой пространства.
Паузы в ажурном рельефе Гутова не менее материальны, чем арматура.
И плотное плетение пустоты и железа придает фривольной сцене метафизический статус, а очень современное произведение отсылает к самым истокам европейской культуры.
У левых современных художников (к которым причислен и Гутов уже потому, что он марксист) есть склонность к нарушению всяческих норм и табу и осмеянию авторитетов.
Левый художник, для которого неумение рисовать считается едва ли не достоинством, принужден вместо решения пластических задач брать на себя роль кухарки с претензией на управление государством.
Тончайший Гутов, получивший разок колотушек от «сообщества» за недостаточную принципиальность на встрече с Путиным, не лезет в пропагандисты. И кухаркины дети, набравшись смелости, могли бы упрекнуть его в коллаборационизме: несмотря на то, что любовь к мальчикам была крайне популярна в античности,
для открывшейся в разгар медийной войны гомофилов и гомофобов выставки Гутов избрал исключительно гетеросексуальные сюжеты.
По нынешним временам — практически целомудренные, как ансамбль «Калинка».
Сложно быть честным марксистом, когда революция сколлапсировала до размеров фейсбука. Но любой идее нужен базис, и ученый художник Гутов ищет его в традиции: в рисунках Рембрандта, русской иконе, росписях античных ваз. Так о чем же выставка, спросит продвинутый зритель, для которого вершиной художественного прогресса являются пляски в храме и заборные росписи? А выставка просто о любви. С точки зрения исторического материализма.

 Цивилизация
Цивилизация