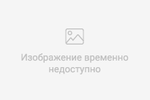Исторические концепции неизбежно упрощают картину недавнего прошлого – к этому можно привыкнуть, но иной раз трудно смириться. Особенно когда в поле зрения попадают художники, в рамки популярных схем не укладывающиеся. Российское искусство ХХ века принято рассматривать как поле идеологической борьбы, где авангардистов одолевали соцреалисты, а последующие нонконформисты брали реванш у номенклатурных авторов. Модель выглядит довольно складной и вроде бы убедительной, но реальность была куда богаче, в чем можно регулярно убеждаться, если обращать внимание на показы нераскрученных наследий.
Ближайший по времени пример – выставка карандашных рисунков, гравюр и литографий Виктора Вакидина, устроенная в Литературном музее галереей Г.О.С.Т. Имя этого художника известно лишь узкому кругу ценителей, что объяснимо:
Вакидин не примыкал ни к какому лагерю, держался в стороне и от официозных, и от андерграундных трендов.
И не был при этом таким уж вопиющим исключением из правил: подобного отношения к искусству и жизни придерживался целый слой художников, которых теперь нечасто вспоминают. Можно сказать, что они попали в заложники истории общеполитической, оперирующей понятиями, далекими от художнической логики.
Между тем у Вакидина имелись неплохие шансы угодить в искусствоведческие анналы. Он мог унаследовать авангардные идеи, еще имевшие остаточное хождение в начале 1930-х, когда он перевелся из ленинградского Вхутеина в московский Полиграфический институт. И стал бы подпольным автором, тянущим втайне прогрессивную нить навстречу будущей, возможно, посмертной славе – такие примеры известны.
Однако Вакидин выбрал другой путь – тоже не сулящий большого прижизненного успеха.
Пройдя монументальную школу в бригаде Владимира Фаворского, он в итоге увлекся станковым рисованием. Причем выбирал сюжеты заведомо «безыдейные», карьерному росту никак не способствовавшие. За камерные портреты, натюрморты, пейзажи в советское время никого опале не подвергали, но и похвалы не удостаивали. Жанры эти считались в определенном смысле «лишними», то есть отвлекающими от строительства новой жизни.
И художники вакидинского склада тоже казались «лишними», обочинными.
Впрочем, подобная роль не представлялась Виктору Николаевичу мучительной. Он был слишком увлечен своим делом, чтобы терзать себя мыслями о статусе. Едва ли не главной его темой стали уголки старой Москвы, большинство из которых до наших дней не дожили. Наверное, эти рисунки можно воспринимать и как документальные свидетельства – у них не отнять качественной деталировки. Однако подлинный их смысл не летописный. Они выступают образцами мастерского, поэтического, психологически очень точного рисования. Нетрудно допустить, что такого рода работа могла захватывать с головой, не оставляя места для сомнений, понравятся ли результаты будущим поколениям.
Честность перед собой была для Вакидина важнейшим критерием.
Он делал то, что считал необходимым, и это явственно проступает в его листах, сколь бы немодными и «ретровыми» они ни казались.
На хлеб художник зарабатывал в основном книжными иллюстрациями, образчики которых тоже фигурируют в экспозиции. Впрочем, для Вакидина не существовало деления на творческую работу и «халтуру»: книжки без напряжения продолжают его пейзажный и портретный ряд. А еще он знал толк в изготовлении экслибрисов. Персональные штемпели заказывали ему люди приличные и образованные – помянуть хотя бы Дмитрия Сергеевича Лихачева. Словом, за что из вакидинского наследия ни возьмись, во всем виден след высокой художественной культуры и искренней любви к своим сюжетам. А вот признаков идейной борьбы с кем-либо или с чем-либо не отыскивается вовсе. Большой изъян с точки зрения нынешнего понимания искусства. По счастью, Виктор Вакидин не брал в голову это потенциальное обстоятельство.

 Цивилизация
Цивилизация