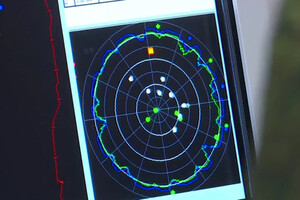Когда слышишь мнение (оно звучит не так уж и редко), что в русском искусстве минувшего столетия внимания по-настоящему заслуживает только авангард, то отдаешь себе отчет: заявитель лукавит. Не важно, по каким причинам. Аргументация в пользу подобного мнения обычно типовая и внутренне хилая: во всем мире знают именно об авангарде, а все прочие наши художественные явления там мало кому интересны… Что ж, в эпоху засилья раскрученных брендов эта позиция, наверное, не лишена определенной логики, хотя и несколько извращенной. Дескать, феномены, не представленные в топовой десятке крупнейших планетарных музеев, могут считаться проигравшими «естественный отбор» и с легким сердцем выпущены из дальнейшего рассмотрения…
Надо ли говорить, что установка не только снобская, но и профессионально ущербная, если речь об искусствоведах.
Дело тут даже не в патриотизме (хотя нет ничего противоестественного в том, чтобы интересоваться различными оттенками именно своей национальной культуры), а скорее в объемном понимании художественных процессов как таковых. Назвать что-нибудь слету «архаичным» или «несущественным» – значит, заведомо выбросить это явление из собственного оперативного арсенала, да и других поставить на грань похожего искушения. Правда, делать так иногда все же приходится: нельзя любить и ценить в равной мере все, что попадается на глаза. Селекция неизбежна, но хорошо бы к ней подходить поделикатнее и пообъективнее.
Такого рода мысли навеяла автору этих строк выставка книжной графики Владимира Фаворского. С одной стороны – безусловного классика, с другой – художника, в последние годы не слишком популярного.
Никто, разумеется, не прикладывал специальных усилий, чтобы вынести его творчество куда-то на обочину истории искусства, но так уж почти само собой получается.
Нынешняя увлеченность «первым» и «вторым» авангардом сделала свое дело: фигура Фаворского затерялась на фоне «гигантов эпохи» и просто модных авторов. Хотя, между прочим, он-то к числу гигантов относится без всяких натяжек – но вот ведь подвела его персональная идеология, плохо совместимая с авангардными концепциями… Правда, знаменитый нонконформист Эрик Булатов до сих пор называет Фаворского своим главным учителем, но такие детали легко ускользают от внимания публики. Наиболее распространенный сегодня вердикт: Владимир Андреевич – конечно, мастер, однако мастер какой-то «старорежимный», не поддающийся актуализации.
Действительно, актуализировать сегодня наследие Фаворского непросто – хотя бы потому, что изрядно истончился за десятилетия зрительский слой, которому он адресовался.
Но оценить масштаб его личности все-таки возможно. Надо заметить, этот масштаб чуть ли не обратно пропорционален формату его самых известных работ. Хотя Фаворский когда-то занимался и монументальным искусством, и сценографией, и скульптурой, все же главным было амплуа книжного иллюстратора. Вернее, дизайнера-полиграфиста, поскольку сам художник с определенностью заявлял: «Я не иллюстрирую произведения, а создаю книгу». Именно этот материал, включающий гравюры, рисунки, эскизы, прижизненные издания, собран сейчас в экспозиции.
Она не поражает воображение количеством экспонатов, зато здесь хватает раритетов (большинство из них позаимствованы в семействе Фаворских-Шаховских), да и в целом иллюстраторская карьера художника прослежена очень внимательно, пусть временами и пунктирно. А исчерпывающую информацию о ней можно получить в каталоге книжной графики Фаворского, составленном председателем Московского клуба библиофилов Леонардом Чертковым и только что изданном, – к этому событию выставка и приурочена.
В 1923 году искусствовед Абрам Эфрос писал про Фаворского с мягкой иронией: «Этот большой, медведеобразный человек, с рубленым из коряги лицом, нависшей бородой, тугой речью и упругой мыслью, проходит воочию обремененный своим слишком большим искусством. Он раздает его неразборчиво, пригоршнями, кругом – все равно кому и все равно как. Он оставляет его на руках верных и предательских учеников, бросает на прилавках всех редакций, благодушно и терпеливо выслушивая каждого, будь то ветеринар из «Вестника коннозаводства», профессор из «Страниц искусствознания», пропагандист из «Революции и прессы» или антикварий из «Ежемесячных собирателей». Действительно, Фаворский в ту пору был весьма востребован и работал сразу на несколько фронтов, занимая при этом еще и должность ректора ВХУТЕМАСа.
Однако о халтуре и речь не могла идти, пускай даже отношение к его иллюстрациям бывало неоднозначным.
И чем дальше, тем неоднозначнее. На выставке, к примеру, можно обнаружить журнал «Искусство» за 1937 год, где после статьи о художнике имеется следующий текст от редакции: «Несмотря на то, что В. Фаворский проходит сейчас некий путь творческой перестройки, возникает все же серьезнейший вопрос: каким образом художник, очень упорно еще отстаивающий формалистические теории, ведет ответственейшую кафедру в Изоинституте? Почему комитет по делам искусства проявляет в этом вопросе столь непонятный либерализм?» Такое вот доброе послесловие, после которого Фаворского отстранили от профессорства… Данный эпизод, впрочем, упомянут здесь не столько для изобличения тогдашних нравов, сколько для того, чтобы подчеркнуть: мэтру пеняли в первую очередь на его «формалистические теории». В глазах казенных идеологов он был не простым иллюстратором, а носителем «неприемлемых» взглядов на искусство – и к тому же их пропагандистом среди молодых.
Если разобраться, влияние Фаворского на нашу художественную жизнь оказалось огромным: его испытали на себе десятки авторов, отнюдь не худших. Формат газетной статьи не позволяет остановиться на подробностях его учения, ограничимся лишь тезисом, для кого-то спорным: эти «формалистические теории» могут быть применены к любому искусству, не только позавчерашнему. И гравюры самого Фаворского – лишь пример подобного применения. Впрочем, профессиональные разговоры об организации изобразительного пространства и других такого рода «материях» у нас давно увяли, так что Владимир Андреевич, понятно, никому нынче не указ и не авторитет. Но заглянуть на выставку все равно стоит, хотя бы в память о временах, когда теория еще что-то значила для художественной практики.

 Цивилизация
Цивилизация