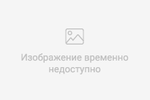Килиан признан великим уже лет пятьдесят, Макгрегор известен как даровитый представитель среднего поколения хореографов. Но в Большом театре обе знаменитости — дебютанты: мы, как всегда, с опозданием реагируем на реальность. Ставя вместе два названия, дирекция театра вряд ли замышляла нечто большее, чем знакомство публики с европейскими поисками. Но результат оказался неожиданным. «Симфония» и «Chroma» рядом! Трудно придумать инсталляцию круче.
Килиан поставил «Симфонию» в 1978 году. Уроженец Праги, уехавший в Западную Европу учиться современному танцу, к тому времени заявил себя самобытным хореографом и был приглашен работать в Нидерландский театр танца. Именно там Килиана настигла ностальгия. Не та, «по березкам», из-за которой пьют горькую, утирают пьяную слезу и голосят романс про гимназисток и поручиков, но переживания взрослого, вспоминающего о юношеской первозданности чувств.
Отправной точкой стали старинные пражские соборы с их величественностью и острым ощущением тайны.
Прикосновение к тайне переживал молодой Килиан, когда вспоминал свое детство: гуляя по Праге, он любил подглядывать в замочные скважины запертых церквей. Сквозь узкое отверстие мальчику был виден лишь кусочек барочного алтаря — золотые всплески, сверкавшие в полумраке. Точно так же устроен задник в «Симфонии псалмов» — сплошь персидские ковры, мерцающие загадочным светом. При этом сцена открыта до глубины, и ее мрачноватое пространство напоминает неф огромного собора. Музыка Стравинского, которую Килиан обживает до тонкостей, выткана из инструментального звучания и хоров, распевающих псалтырь. В трех псалмах, взятых вместе, намечен путь. Сначала призыв к высшему милосердию, мольба о спасении души. Потом благодарность за услышанные молитвы. И, наконец, хвала высшей гармонии.
Но до гармонии всегда далеко, и в начале пути на сцене царит асимметрия, вгоняющая тела в смятение: внешний порядок немыслим там, где у людей путаются мысли и эмоции.
Герои балета — мужчины, женщины и стулья. При первых звуках музыки сидящие мужчины встают, а стоящие женщины сгибаются, чтобы резко нырнуть в движение. С боков к центру наплывает человеческая волна, по ходу продвижения теряющая цельность, оставляющая проплешины в общем порядке. Танец предельно сосредоточен, артисты как бы ушли в себя, тревожно шаркая ногами, резко падая ниц, сгибаясь от невидимого гнета и контрастно взлетая в удалых прыжках. Вот неугомонная девушка тянет друга в бунт против бездумного подчинения. Вот смиренный парень успокаивает взбудораженную подружку, подложив ей ладонь под запрокинутый затылок. В какой-то момент достигнуто умиротворение, позы с раскинутыми в стороны руками напомнят о кресте, хор гремит «аллилуйя», но откровение неустойчиво, и тревожная радость сменится пластическим диссонансом: каждая пара переживает его по-своему.
Хореограф говорит о раздвоенности и поиске, и максимум, чего добиваются уходящие вдаль персонажи «Симфонии», — это покой.
Вот только надолго ли? Главная прелесть: автору важна не конечная истина, но игра воображения об истине. В момент создания «Симфонии» тридцатилетний Килиан все еще подглядывал в замочную скважину.
Уэйн Макгрегор в «Chroma» нашел себе достойных соратников. Забойная рок-музыка Джоби Тэлбота — сплошь апофеозы, перемежающиеся лирическими затишьями. Сценограф Джон Поусон именуется «отцом архитектурного минимализма», что оправдывается на глазах: есть пустая сцена с экраном на заднике, из которого входят и выходят исполнители, танцуя «сквозь архитектуру» Это еще и полигон столкновений темного с белым — речь, в частности, идет о природе света и его действии на человека. Танец построен на реакциях нервных окончаний десяти танцовщиков, зависящих от внешних информационных агрессоров — комбинаций темного, быстрого, светлого и медленного.
После «Симфонии псалмов» «Chroma» — продукт 2006 года — смотрится как бунт сына-радикала против мудрого, но старомодного предка. Такой необъявленный семейный конфликт в рамках балетной профессии, даром что манера сочинять танцы совершенно разная. Килиан, хоть и гнет своих босых артистов петлями и дугами, все-таки черпает своеобразие в недрах природной человеческой естественности, отказываясь от классики, потому что она придумана для четкого и высокопарного высказывания, в то время как Килиану хочется поделиться неоднозначной мыслью.
Макгрегор же, экспериментируя с равновесием, обращается с телом так, словно оно трансформер.
Уловить этот стиль трудно, а для труппы Большого театра тем более. Труппа хоть ранее и станцевала балет не менее сногсшибательного, чем Макгрегор, Форсайта, но пока еще мало привыкла к тому, что танец может стать таким — немыслимо головоломным, с нарочно «поврежденным» балансом. Как выполнить эти технологические перепады, когда спина должна быть похожа на волны в бурю, поддержки «врастопырку» могут довести до обморока, шпагаты надо разодрать почти до разрыва промежности, а ноги взметаются ввысь, словно знамя на баррикадах? Да еще партнер, заворачиваясь винтом, успевает предельно вытянуть партнершу, как жвачку изо рта, а после выжимает и выкручивает даму, как мокрую губку.
«Chroma» — гимн функциональной самодостаточности тела во всемогуществе его мышц, связок и суставов. Каждое движение доведено до логического конца — дальше только распад тела на кусочки.
Артисты Большого танцуют отнюдь не безоглядно, местами даже осторожно, чтобы не сломать себе шеи, но как раз этот факт очеловечивает всю конструкцию. Особо преуспели Светлана Лунькина и Вячеслав Лопатин, у них броско явлена телесная «эластичность». И, как заметил сам Макгрегор, Москва внесла в его сочинение «магнетизм и особую чувственность». Усилиями труппы балет стал иным, чем в Лондоне. Ушло в тень влияние компьютера, когда танец похож на бездушную виртуальную заставку. Действие, возможно, что-то потеряло на уровне физиологии, но прибавило в живой эмоции.
Макгрегор может считать «Chroma» своей счастливой звездой: за этот опус он получил три театральные награды Великобритании и звание хореографа-резидента Королевского балета. При этом, обожая физику, метафизикой резидент не обременен вовсе. И опыт автора поставлен не над артистами, как можно было бы подумать, а над зрителями. Как они воспримут спектакль, в котором тело говорит исключительно о собственном устройстве?
Сорокалетний хореограф прежде всего исследователь: спектакли он ставил как сотрудник факультета экспериментальной психологии в Кембридже.
Правда, вся психология — в прежнем смысле слова — у сотрудника ушла в эксперимент. Поэтому музыка здесь не «отанцовывается», оставаясь прикладным фоном: в научной работе иного не нужно. Но наша голова так устроена, что зрители смогут, если захотят, найти иной, не прикладной смысл в занимательном миксте складной линейки с извивами гуляющего червяка.

 Цивилизация
Цивилизация