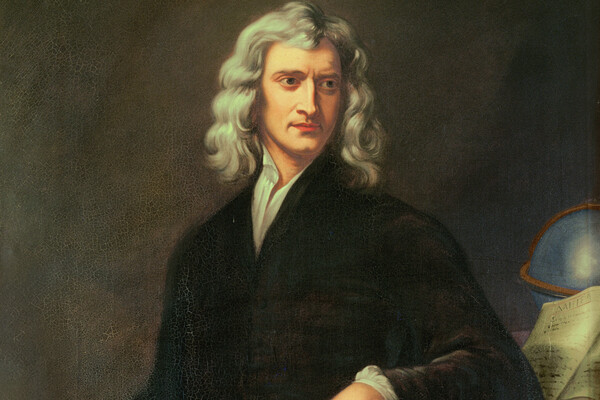Когда из соцреалистического искусства почти напрочь исчез декоративный и сочный цвет, едва ли не единственным дозволенным колористом оставался Мартирос Сарьян. Долгое время произведения Сарьяна для советских зрителей были чуть ли не пределом разрешенной «левизны» в искусстве. Яркие букеты и пейзажи ничего крамольного в себе, разумеется, не содержали, но их цвет в сравнении с унылой серостью сталинского казенного стиля воспринимался почти как вызов. А наиболее проницательные и образованные могли углядеть в сарьяновских работах еще и следы давнего символизма, вроде бы навсегда похороненного официальным искусствоведением.
Эти вольности Мартиросу Сергеевичу прощались потому, вероятно, что он занимал уникальное место в тогдашней иерархии.
Олицетворяя собой все армянское советское искусство, Сарьян играл роль активного проводника политики партии в области национальной культуры. Заменить его на территории Армении было некем. Да и вообще повышенная декоративность его композиций легко списывалась на пресловутую восточную экзотику. Мол, это не формализм какой-нибудь, а местная специфика, основанная на древних традициях. Вот и выходило, что под прикрытием ориентальности Сарьян десятки лет работал так, как ему самому хотелось. Ну почти так. Во всяком случае, требовать от него прямой рекламы достижений социализма никто не собирался. Дань обществу он отдавал преимущественно портретами известных ученых, писателей и артистов.
Странно было бы сравнивать Мартироса Сарьяна с Пабло Пикассо, чья выставка открылась в Москве в эти же дни.
Они представляются очень разными людьми и совсем не похожими друг на друга художниками. Об отличиях их социальных ролей и говорить не приходится. Но все же есть удивительное совпадение в их биографиях – это годы жизни. Они почти одинаковы, разница в несколько месяцев. Обоим был отпущен долгий век, и обоих можно назвать гениями, хотя и несопоставимых масштабов. Сарьян не стал изобретателем новых направлений в искусстве, его дар выражался прежде всего в колоризме.
Выставка в Третьяковке невелика по размерам: здесь показаны только те вещи, которыми этот музей обладает, – около шестидесяти холстов и рисунков.
Но не заметить колористического чутья автора невозможно. Именно ради обновленного понимания цвета путешествовал Сарьян по Турции, Персии и Египту, что отразилось в его работах 1910 годов. И именно посредством обретенного цветового видения он взялся воспевать родную Армению в последующие годы.
Наверное, слово «родную» здесь следовало бы взять в кавычки, поскольку появился Сарьян на свет в Ростове-на-Дону, учился в Москве, а на исторической родине побывал впервые только в возрасте двадцати лет.
Но, оказавшись под сенью Арарата, моментально ощутил себя в этих краях своим. Позднее, уже при Советах, он перебрался на постоянное жительство в Ереван. Правда, было еще двухлетнее пребывание в Париже в конце 1920-х, но история с заграничным периодом вышла печальной. Почти все произведения, написанные им во Франции, погибли при транспортировке домой: сгорел грузовой корабль, в чьем трюме и помещались те опусы.
Так что известный нам зрелый Сарьян – это в основном и прежде всего Армения.
Пожалуй, более поздняя его живопись не так остра и декоративна, как ранняя. Не исключено, что он сознательно пригасил свойственную ему яркость, чтобы не дразнить соцреалистических гусей. Но даже половинной громкости было достаточно, чтобы звучание оставалось насыщенным. На словах Сарьян мог сколько угодно отрекаться от своего декадентского прошлого, однако на практике оно продолжало влиять на его творчество до конца дней. Никогда этот художник не принадлежал к когорте авангардистов, и тем не менее, по странному стечению обстоятельств, оказался едва ли не самым авангардным из советских авторов в 1940–50 годы. Нести эстафету, не зная, удастся ли передать ее кому-то впереди, наверное, не самое комфортное ощущение. Но эту миссию Мартирос Сарьян исполнил без особых колебаний.

 Цивилизация
Цивилизация