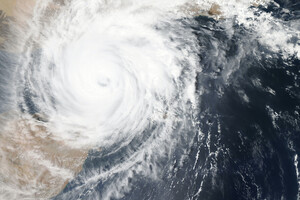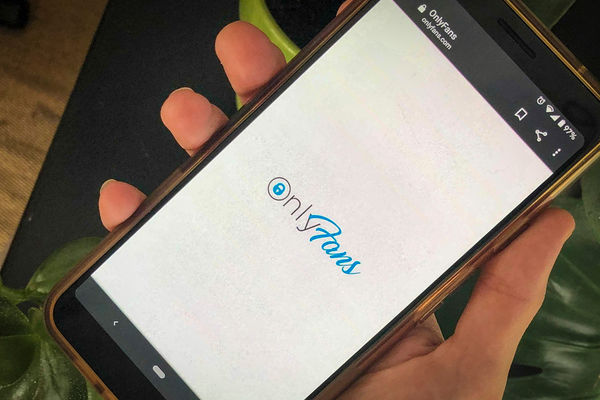«Россияне! С трепетной гордостью произношу это слово, которое звучало из уст императора Петра и полководца Суворова, ученого Ломоносова и писателя Карамзина. Я хочу попросить у вас прощения», — если бы президент Ельцин лет на восемь раньше, на заре своего правления, а не на его исходе, обратился к согражданам с просьбой о прощении в таких, например, выражениях, то вся дальнейшая история страны могла пойти по-другому.
«70 лет назад большевики начали с того, что уничтожили историческую Россию, великую европейскую державу, а закончили тем, что не оставили славянским народам единой страны другого выбора, кроме как жить порознь. Не словом, а делом хочу искупить свою долю вины в этом. Мы уже приступили к разработке Конституции — уставной грамоты нашего отечества, которая будет принята собором всей нашей земли и станет мостом между древней и новой Россией. Мы ведем с представителями императорского дома Романовых переговоры о возвращении на родину и об их новом статусе».
Тем, кто одобряет реформы девяностых в целом, особенно трудно не завидовать частностям пиара нулевых. Отсюда чуть ли не главный упрек в адрес реформаторов со стороны сочувствующих: мало занимались пропагандой.
Мало пугали «лихими» восьмидесятыми. Много рефлексировали над неудачами, мало распространялись о победах.
Но ведь это не совсем правда. «Хозяева дискурса», «лидеры общественного мнения» — попросту говоря, телезвезды того времени в массе своей были как раз из числа сочувствующих. И если сегодня пересмотреть телевизионные программы, скажем, октября 1993 года, то не возникнет особенных сомнений, на кого работала вся, как говорится, мощь тогдашней пропаганды.
Удивительно ли после этого, что сегодняшние граждане нашей страны, разочарованные реформами, считают, что на телеэкранах пышным цветом расцветает полная свобода слова?
Проблема, видимо, в другом. Внутренний месседж, который несли реформы и их творцы, — давайте наконец жить нормально. Как люди. Как все. Причем нормальность понималась сугубо процессуально: нужно просто правильно наладить государственно-общественный механизм, прикрутить все недостающие болтики, отвертеть все лишние гаечки, а дальше он сам собой повезет в нужную сторону. Только вот в какую именно сторону, кому конкретно она нужна и точно ли повезет, как-то не уточнялось.
Нет большой загадки в том, почему о яркости образов будущей России не заботился бывший первый секретарь Свердловского обкома Ельцин. В пути наверх по советской иерархической лестнице его просто не могло не утянуть в самый низ, к разочарованию, на грани с цинизмом, в любой большой идеологии. Может статься, где-то в глубинах памяти отложились и слова Бернштейна «Цель — ничто, движение — все». Ленин вроде был не согласен, честил оппортунизмом — значит, нам теперь в самый раз.
Но по крайней мере отчасти он только транслировал мысли собственного окружения, состоящего в том числе из представителей советской интеллигенции: научно-технической в большей степени, гуманитарной — в меньшей. А та, в свою очередь, попалась в ловушку, невольно расставленную их собственными духовными предками — европейскими интеллектуалами Нового времени.
Когда-то эти последние придумали, что массы людей могут быть объединены чем-то кроме веры в одного Бога и подданства одному королю. С трудом и мучениями, через насаждение всеобщего образования и планомерное уничтожение языковых диалектов они сконструировали и привили своим народам чувство национального единства и общности истории. С не меньшими мучениями эти интеллектуалы впоследствии сами же и деконструировали подобные идеологические построения. В этом месте их как раз догнали советские интеллигенты, но не постсоветский народ.
Оказалось, что ему, привыкшему ощущать свою причастность к большой истории, продать «нормальную жизнь» невозможно.
Тем более если путь к ней пролегает через стократное повышение цен, многомесячные задержки зарплаты, невиданное социальное расслоение, рост преступности.
А можно было пресловутую «Россию, которую мы потеряли» — передовую империю, которой просто не дали двадцати лет покоя, о которых просили самые прогрессивные ее лидеры. Не «Крымнаш», а «остров Крым», только растянувшийся от Балтийского моря до Охотского. Не просто светлое капиталистическое будущее, а его соединение с великим прошлым.
Историк, тот самый советский интеллигент, поморщится: мы такую Россию не потеряли, у нас ее просто не было. А была Россия черной сотни, 90-процентной неграмотности, крестьянства, условно свободного даже после отмены крепостного права. Так, будто существовал в какой-то реальности, кроме киношной, жизнерадостный, нерепрессивный, «нормальный» Советский Союз сталинской поры, который историки, аффилированные с Минкультом, пытаются преподнести нам на блюдечке все последние годы.
И так, будто современный Израиль имеет какое-то реальное отношение к древнему, от которого он тем не менее ведет свои корни. Нашему историку было бы небезынтересно узнать, что Давид Бен-Гурион, первый премьер этого Израиля, многие годы состоял в «Обществе друзей Торы» и проводил свои досуги за поиском соответствий между библейскими местами и реальными локациями на территории своего государства. То есть занимался тем же самым:
не поворачивал реку времени вспять, а возводил над ней мост между полумифическим прошлым и пригрезившимся будущим.
Но постсоветской интеллигенции, как, впрочем, и всякой другой, слишком свойственны повышенная рефлексивность и утонченный вкус. Только вот взятое за основу государственной политики и то и другое оборачивается банальным снобизмом как раз там, где нужна интеллектуальная смелость. Как минимум для того, чтобы на «вопросы смыслов» не взялись отвечать пелевинские циники в союзе с ряжеными казаками, олицетворяющими «народную волю». Хотя бы для того, чтобы расширить скупой политический тезаурус народа, впервые за свою историю обретшего суверенитет как возможность самостоятельно определять свою судьбу.
Если не получается вовсе без слова «великая», то лучше «великая европейская», чем «великая евразийская». Лучше «день жандарма», чем «день опричника».
Положительный образ — старая империя, отрицательный — недавний застой. И тогда многие проблемы — наследие советской власти (что совершенно забывалось в реальной, а не альтернативной России), минимальные улучшения — свидетельство правильности сделанного выбора.
Говоря словами Ницше, можно выдержать любое «как», если знать «зачем». Или хотя бы «почему».
События октября 1993-го в той же роли, что и протесты 2011 года: вихри враждебные веют над нами; Отечество в опасности; враг не дремлет; «наша Вандея»; мобилизуемся, граждане! А лет через двадцать лучшие представители рефлексирующей интеллигенции объясняли бы: послушайте, и в 1993 году все было не так однозначно, а советская власть вообще безграмотность ликвидировала.
Интеллигенция, кстати, могла бы с чистой совестью позволить себе быть сплошь левой, как и положено в прогрессивной Европе. Еще один выверт исправлен: USSR is new sexy.
В этой, другой России даже слово «россияне» звучало бы как освященный веками этноним, а не как полукомичный неологизм. А либерал не был бы антонимом патриоту. И Борису Ельцину не пришлось бы второй раз просить прощения у «дорогих россиян».

 Цивилизация
Цивилизация