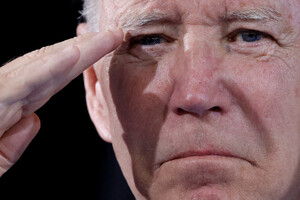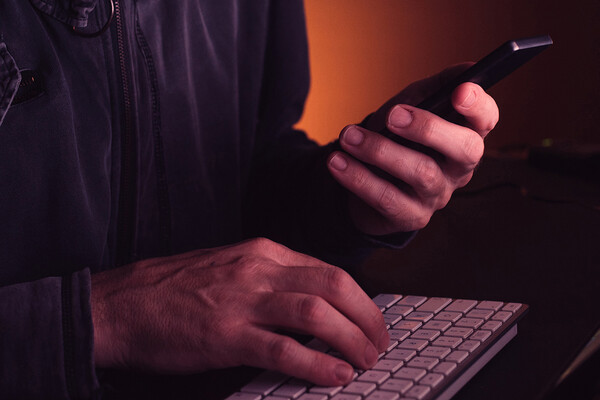Давайте упрощать.
Это довольно трудно, но необходимо. Потому что нет ничего проще, чем усложнять любой вопрос, запутывая его до неразрешимости. До полной неразличимости дня и ночи, мяса и рыбы, Швеции и Руанды, бормотухи и коньяка, британского парламента и Верховного Совета СССР.
Так что попробуем попросту.
Некоторая, мягко говоря, специфика демократии в нашей стране обусловлена не только сочетанием сотен и тысяч исторических, социальных, культурных, религиозных, экономических… каких там еще?.. климатических, географических — фу! кажется, все — факторов. Дело в том, что наша страна принадлежит к определенному типу политической культуры.
А всего их два — упрощаем, упрощаем, я же обещал! Точнее, два несовместимых ядра. «And never the twain shall meet», как сказал Киплинг по несколько другому поводу. Переводится: «И с места они не сойдут», хотя дословно: «И никогда не встретятся эти двое».
«Эти двое» — институциональное и персоналистское воззрение на политику и прежде всего на власть. А если по-русски, немного в духе адмирала Шишкова, — уставное и личностное.
Вопрос вопросов: что (или кто) управляет страной? Закон государства или воля вождя? Должность или личность? Председатель Совнаркома (принцепс сената) или товарищ Сталин (богоподобный Калигула)?
Для сторонников институционального воззрения дело обстоит так: каким бы прекрасным, умным, ответственным, опытным политиком ни был данный руководитель страны, по истечении конституционного срока он должен быть сменен с помощью свободных выборов… Ежели же речь идет о монархии, то и сам царь не имеет права выходить за рамки законов, его предками установленных. А также не может он выходить за рамки некоего высшего закона, то есть общественного договора и принципов права.
Как это у Пушкина:
«Владыки! Вам венец и трон
Дает Закон — а не природа;
Стоите выше вы народа,
Но вечный выше вас Закон».
Но в той политической культуре, где господствует персонализация власти, люди думают в принципе иначе: зачем нам нужен новый человек во главе страны, когда этот уже много лет отлично справляется? Опытный, авторитетный, ответственный политик… Ну кто с ним сравнится? Да и кого конкретно вы видите на его месте? То-то же! Выборы — это, конечно, очень мило, но ведь выберем неизвестно кого, потом слезами обольемся, локти искусаем.
А если говорить о монархии, то любой поступок царя законен по определению.
Как это в Воинском уставе Петра Первого:
«Его Величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах ответу дать не должен. Но силу и власть имеет свои государства и земли, яко христианский государь, по своей воле и благомнению управлять». Или, еще короче, в первом послании Грозного к Курбскому: «А жаловати есмя своих холопей вольны, а и казнити вольны же есмя».
Мне кажется, что в политической культуре Европы, Америки и части Азии все же господствует институциональная культура. А в другой части Азии и в большей части Африки — культура персоналистская. Пожизненные африканские лидеры тому свидетельство. О да, разумеется, они приходили к власти посредством демократических выборов, но потом сами же цинично обшучивали свою демократию: свободные выборы по принципу «Один человек — один голос — один раз».
Полагаю, тут дело не только в цинизме и властолюбии племенных или клановых вождей, в одночасье ставших законно избранными президентами. Тут дело в политической культуре данного общества. В ставке не на закон, не на учреждения, а на персону, на вот этого конкретного человека, который решит все вопросы вот этой конкретной деревни.
Да зачем в Африку ездить? И в нашей стране я часто встречал, особенно в советское время, взрослых умных людей, которые искренне считали выборы регулярным ритуалом почтения к власти. «Hommage», как говорят французы. «Сделай уважение!» — как говорили в южных республиках нашей бескрайней родины. Поэтому, кстати, никого (практически никого) из советских людей не удивляло и тем более не оскорбляло, когда им предлагалось выбрать из одного человека. Обряд подтверждения лояльности, и более ничего.
Почему демократы-реформаторы в России (и деколонизаторы в Африке) решили, что многовековую, укорененную в повседневности политическую культуру одного типа так легко заменить на другую? Откуда это легкомысленное убеждение, что народы мира спят и грезят о свободных альтернативных выборах, о верховенстве права, о разделении властей и независимом суде? Увы, увы.
Добрая половина народов мира если о чем и грезит, так это о возвращении доброго и сильного отца вместо злого дядьки, который живет с мамкой и обижает сироток.
Изменить персоналистскую матрицу, конечно, можно, но это долгая и трудная работа. Люди сопротивляются демократическим переменам и сами дают своим президентам бессрочно-пожизненные полномочия.
Персоналистский режим может показаться более динамичным и сильным. Исчезают или сводятся к минимуму издержки согласований, которые тяжким бременем лежат на любой политике институционального типа. Парламент голосует как по команде, ни один министр не подает в отставку в знак протеста, верховный суд штампует нужные решения. Все быстро, споро и просто.
Но возникают некоторые, как говорится, отрицательные внешние эффекты.
Сложившийся республиканский (как бы демократический) персоналистский режим в смысле стабильности гораздо хуже монархического. В монархии есть законы о престолонаследии. Его высочество наследный принц всегда на подхвате, и его претензии на власть бесспорны. Это даже не претензии — здесь это явно неудачное слово, — а законное замещение позиции. В случае безвременной смерти или отрешения/отречения наследника всем известно, кто в этой очереди второй, третий и пятнадцатый. Более того, элиты имеют возможность заранее переориентироваться на наследника. А в случае ухода персоналистского лидера начинается кавардак.
И второй, особо опасный отрицательный внешний эффект персоналистской политики — появление эгоцентрической идентичности. Институты (то есть законы и правила) подразумевают фундаментальную ценность всеобщности, универсальности. Закон один для всех, все равны перед его лицом, pacta sunt servanda и т.д. При персоналистском режиме всячески подчеркивается уникальность личности лидера, а также уникальность ситуации, которая заставила надеяться на уникального человека, и далее — уникальность всего историко-культурного контекста, уникальность нашего «мы». Которое не только несравнимо с «они», но и не подразумевает никакого включения в международное «все».
Мы особенные, нам всехний закон не писан. Апелляция к единой системе правил и норм воспринимается как слабость, как сдача позиций.
Мышники вряд ли смогут договориться со всешниками. Российская власть присоединяет отколовшийся от Украины Крым, а перед этим ведет агитацию за его отделение — часто устами пророссийски настроенных крымчан (на тот момент граждан Украины). Одновременно в России вводится в действие закон, сурово карающий за призывы к сепаратизму. Для всешников это как минимум парадокс. Для мышников — нормальная ситуация.
Беда в том, что в современном мире для мышников и персоналистов остается все меньше и меньше места. Нужда в общем своде правил день ото дня становится сильнее, чем естественное (да, да, естественное! очень человеческое! очень народное!) желание заявить о своей уникальности. Так что придется выбирать.

 Цивилизация
Цивилизация