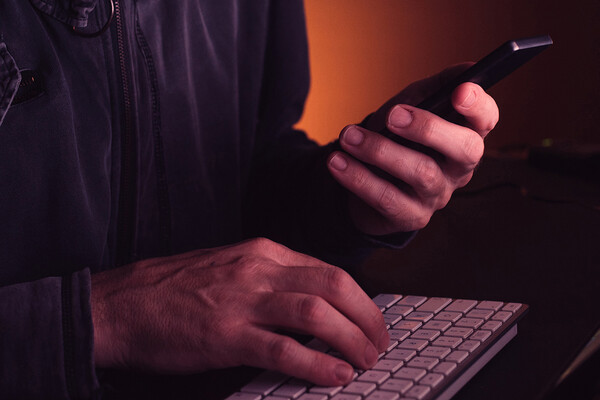— Многие считают, что нулевые были временем страха перед наукой и будущим. Сегодня есть ощущение, что будущее из футуристических фантазий на глазах превращается в реальность завтрашнего, если не сегодняшнего дня. Что, на ваш взгляд, приближает его к нам и становится ли будущее как идея более привлекательным?
— Последние годы появляется все больше интересных разработок, причем не столько практических, сколько, скажем так, многообещающих. Например, беспилотный транспорт, поезда Илона Маска, которые должны летать в вакуумной трубке со скоростью самолета, и якобы это будет дешевле, чем стандартный поезд. Это еще не реальность, но уже очень близко. Самая важная тенденция — это, конечно, развитие биотехнологий и вмешательство в человеческую природу, что теоретически может привести к очень резкому увеличению продолжительности жизни и появлению людей с какими-то новыми свойствами, что, в свою очередь, теоретически может дать второе дыхание космической отрасли. Потому что пока космический аппарат легко на Марс отправить, а человека — трудно.
Второе по важности — это появление искусственного интеллекта. Он может вытеснить человека откуда угодно. Вплоть до творческих и управленческих должностей, что, конечно, несколько пугает. Пока что он находится в эмбриональных формах, но очень быстро развивается. Далее — реиндустриализация западных стран, на началах интернета вещей и роботизации. Увеличение роли сетевых структур в экономике и политике, уменьшение роли старых стабильных структур, таких как правительства и госкорпорации.
Все это дает горизонт, чувство горизонта. И самые передовые группы интеллектуалов все больше устремляют туда свой взгляд. От них уже идут всякие научно-популярные импульсы для остальных.
— Очень много возникает вопросов, связанных с этикой. С одной стороны, страны стремятся делать важные открытия и заинтересованы в этом, с другой — барьером служат многочисленные ограничения. Например, запрет на клонирование вроде бы общепринят. А вот создание «дизайнерских младенцев» — вещь, находящаяся в правовом поле, но также вызывающая много споров об этичности. Как устанавливаются границы допустимого? Где проходит граница между необходимой регуляцией прогресса и барьером на его пути?
— Регулирование биологии и медицинских вопросов с точки зрения этики — не новость. Это началось примерно в последней четверти XX века, когда возникла так называемая прикладная этика. Поскольку медицина и биология все сильнее вмешиваются в саму человеческую природу и в некотором смысле «угрожают» человеческой жизни и благополучию, возникла целая индустрия регуляции, она уже благополучно существует. В виде комитетов и советов по этике — есть такой при Минздраве, при Русской православной церкви, даже при совете директоров АФК «Система»...
Так что да, общество будет пытаться все зарегулировать, будут выпускаться все новые нормативы, что будет несколько сдерживать прогресс и заставлять исследователей выбирать другие регулятивные пространства, например переезжать в другую страну.
Когда страны будут обнаруживать, что они отстают, будут снижать контроль.
Но при этом понятен общий императив всех этих действий — запрет причинения вреда жизни, здоровью, благополучию людей, вообще говоря, разумных существ. О том, что такое вред, и будут вестись споры. В общем, я думаю, что ничего страшного не произойдет, будет просто такой побочный шум научно-технического прогресса.
— А вот, предположим, улучшение генома. Это же нельзя воспринимать как безусловный вред. Но, с другой стороны, возникает очень много вопросов, связанных с неравенством. То есть люди с хорошим достатком смогут позволить себе генетические исследования, прежде чем завести детей, а бедные — нет.
— Все хорошее, что есть в цивилизации, могут себе позволить богатые и не могут бедные. Это касается и хорошего медицинского обслуживания, и высокотехнологических операций, которые спасают жизнь, и хорошего питания.
Более того, богатые люди — это площадка, на которой отрабатываются инновации, как это ни смешно.
Любая новинка проходит свой путь так: сначала ею пользуются богатые, потом она постепенно, по мере расширения благополучия, спускается ниже. Сначала богатые пользовались автомобилем — теперь автомобили уже в массовом использовании. Еще лет сорок назад пластическая хирургия была уделом звезд — теперь любой человек, во всяком случае в крупном городе, может ей воспользоваться. Ну и так далее.
— А как научные революции смогут повлиять на общественное устройство? На политические режимы, взаимоотношения между сословиями, классами?
— Есть стандартное представление об этом. И есть некоторая неуверенность, что этот стандартный прогноз сбудется. Стандартный прогноз заключается в том, что рушится наш привычный мир, в котором главным политическим субъектом является национальное государство.
Надо сказать, что мы сейчас очень много рассуждаем о правительствах, президентах, национальной политике не только потому, что они оказывают решающее влияние на жизнь, но и потому, что нам привычно расчерчивать карту реальности с опорой на правительства отдельных государств.
Считается, что важнейший политический процесс, который мы сейчас переживаем, это кризис национального государства.
Значение государства и правительств отдельных стран будет все сильнее уменьшаться. Как считает социолог Зигмунт Бауман, происходит разделение власти и мощи. Теперь тот, кто обладает властью, не всегда обладает силой. Бауман имел в виду прежде всего, что правительства подменяют транснациональные корпорации. Но сейчас речь идет не только о них. Это многогранный, многоуровневый процесс.
Самое понятное — это образование наднациональных структур, самым продвинутым из которых является Евросоюз, а по его образцу сейчас существуют многие континентальные и трансконтинентальные союзы. Вот недавно создали Транстихоокеанское партнерство. Практически на всех континентах создаются такие макрорегиональные союзы, с разной степенью продвинутости.
Возможно, в будущем речь идет об образовании если не мирового правительства, то мировой политической системы.
— Тем не менее с недавних пор будущее Евросоюза стало туманным.
— Ничто не развивается линейно. Но, на мой взгляд Евросоюз и, говоря шире, общеевропейский политический контур не может развалиться, потому что многие страны уже не могут существовать отдельно от него. Хотя бы потому, что они могут обеспечивать свою безопасность только внутри объединенной Европы. И для них это очень выгодно, потому что они экономят на оборонных расходах. Есть слишком слабые члены, вроде Греции, есть слишком состоятельные, вроде Англии, но основная масса, прежде всего Германия и Франция, они как-то не особенно собираются это дело рушить. Это с одной стороны.
С другой стороны, вообще существует тенденция медленного размывания крупных структур, их замена сетевыми отношениями. Главная причина — необходимость обеспечения гибкости, для того чтобы экономика перестраивалась на управление отдельными проектами. Нужно, чтобы все факторы производства, все люди быстро могли собраться для реализации одного проекта — и быстро разойтись, когда этот проект закончился.
Вообще, все, что делал либерализм за последние 200 лет, когда он требовал отмены таможенных пошлин, введения свободы торговли, свободы перемещения капитала, свободы перемещения рабочей силы, это, по большому счету, было подчинено одной задаче — сделать перемещение всех факторов производства как можно более гибким и быстрым. Чтобы экономика могла как можно быстрее перестраиваться. И пределом этого процесса должна быть атомизация экономических субъектов, когда всякий человек является не трудящимся, а малым предпринимателем, который вступает в договорные отношения по поводу участия в одном конкретном краткосрочном проекте.
Экономика превращается в такое марево мелких атомарных структур, небольших инновационных фирм, просто отдельных специалистов, которые собираются для выполнения какой-то производственной программы и потом расходятся.
Помещение принадлежит не заводу, а, грубо говоря, кому-то, кто сдает помещение для производства и проекта, и оборудование принадлежит не тем, кто на нем работает, а тем, кто сдает в аренду оборудование. И есть кто-то, кому понадобилось изготовить какое-то уникальное изделие.
При этом идея заключается в том, что в будущем будет все меньше серийных изделий и все больше индивидуальных, сделанных под конкретного человека… В некотором смысле это возвращение ремесла и кустарщины, но на новом технологическом этапе.
— В то же время многие переживают за качество таких трудовых отношений. Социологи вводят термин «прекариат», подразумевая людей, не имеющих никакой постоянной работы.
— Это как раз последствия исчезновения границы между капиталистом и трудящимся. Промежуточной структурой становится индивидуальный предприниматель. Предприниматели вступают друг с другом в отношения, образуя сетевые, то есть очень быстро меняющиеся и временные структуры. Это не значит, что в такой системе нет неравенства. Дело в том, что в этих сетях все равно будут те, кто умеет хорошо маневрировать, те, кто становятся в них диспетчерами, продюсерами и вообще руководителями проектов. Об этом есть знаменитая книга Барда и Зодерквиста «Netoкратия». Нетократия — это новая элита, которая умеет управлять информационными и людскими потоками в сетях.
В сетях можно проиграть. Потому что это очень жесткий мир, это рыночная экономика, доведенная до своего предела.
Сеть — это абсолютная степень развития рынка. Рынок — это потенциально абсолютная сеть.
— То есть, с одной стороны, человек становится более самостоятельным в выборе работы. А с другой стороны, он этого выбора лишается, потому что начинает быть очень зависимым от рынка.
— От рынка, но не от кого-то конкретного. Это еще хуже. Потому что протестовать бессмысленно, нет субъекта эксплуатации.
— Но ведь распространение прекариата может создать благоприятную почву для новых автократий?
— Вряд ли. Никакой государственный режим не может существовать без какой-то полезной функции, которую он выполняет. Даже фараоны выполняли функции военного командования, занимались оросительной системой. Кроме того, считалось, что они обеспечивают очень важную религиозную функцию. По мере того как экономика становится все более сетевой, не совсем понятно, какую функцию будет выполнять власть.
— Будет торговать угрозами.
— Да, но это временный ресурс. Власть, скорее, будет превращаться в администрацию гостиницы для инвесторов и трудовых ресурсов. Будет следить за инфраструктурой, за безопасностью, за правовой системой, которая обеспечивает выполнение контрактов. Вся западная рыночная цивилизация строится на гарантиях выполнения контрактов, и этим, собственно, западная цивилизация отличается от всех остальных, в том числе от российской. Возможно, власти должны обезболивать последствия социального неравенства, которые будут, по-видимому, все более выразительными, как пишет Пикетти в книге «Капитал в XXI веке». Особенно учитывая тот факт, что в мировую систему вовлекаются самые бедные страны.
— Не так давно разговаривали с Гасаном Гусейновым о том, как меняется русский язык. Он считает, что в будущем количество грамотных людей будет уменьшаться. То есть будет небольшой процент людей очень грамотных, хорошо подкованных с точки зрения литературы и истории, а все остальные будут иметь очень смутное представление о грамотности.
— В общем-то массовая грамотность — это исторически сравнительно недавнее появление. Массовая грамотность возникла в связи с индустриализацией, с необходимостью большого числа грамотных специалистов. Даже рабочий в промышленности, даже солдат в армии должен хоть что-то уметь прочесть, когда вокруг такая сложная техника. Хотя при этом стандарты грамотности задавала не промышленность, а традиционные филологи. Это тоже любопытно.
Мы видим, что ситуацию с грамотностью задают интересы производства. Что будет происходить с производством дальше, я не совсем понимаю. С одной стороны, мы видим, что технология становится все более сложной. И это дает основание говорить, что, по крайней мере, потребность в образованных людях никуда не денется, и даже вырастет. С другой стороны,
интерфейс «человек — машина» — это особый интерфейс, не то что «человек — человек». И он не требует хорошего русского языка, и вообще хорошего языка.
Может быть, грамотность устареет как недостаточно быстрый, недостаточно эффективный способ общения с машиной. Буквы, наверное, надо будет знать какие-то, может быть, даже много разных знаков, не только буквы — смайлики, например. Но составлять слова в предложения по правилам риторики, по правилам синтаксиса будет не обязательно, а надо будет знать, как устроена машинная среда.
И существует еще одна непонятная проблема. Она настолько непонятна, что неясно даже, существует она или нет. Эта проблема массовой технологической безработицы. Например, очень известный макросоциолог Рэндалл Коллинз написал статью, в которой описал проблему невиданной по массовости безработицы вследствие роботизации и появления искусственного интеллекта. Об этом очень трудно рассуждать, потому что до сих пор все технологические эволюции, которые происходили, не приводили к массовой безработице. Они приводили к временной безработице, которая тем не менее как-то улаживалась…
— Потому что рынок очень гибкий.
— Да. США, например, в свое время закрыли множество заводов и перевели их в Китай, но все-таки там не бог весть какая безработица, и люди нашли себя в сфере сервиса… Тем не менее Коллинз пишет, что, по его видению, наступит время, когда 50 процентов работоспособного населения будет не занято и люди даже не смогут найти подработку из-за роботов и искусственного интеллекта. И если так, то неясно, будет ли нужна грамотность — в нашем смысле слова — этим безработным эпохи роботизации.
— И люди грамотные, обладающие знаниями, будут похожи на неких жрецов.
— Они будут похожи на русских дореволюционных интеллигентов, которые выжили во времена террора и которые оказались среди интеллигентов советского пошиба. Они обладали огромным количеством культурных навыков, которые давно вымерли и которыми люди перестали овладевать. Например, в дореволюционных гимназиях учили латинский, греческий, французский и немецкий — это было обязательно. Четыре языка, два древних и два современных. Если человек поступал в университет, скорее всего, он должен был еще и английский знать… И это, конечно, вызывало большое почтение.
— Но не более.
— Но не более, потому что зачем знать латинский, греческий, французский в мире, где теперь нужен только английский?
— Наряду с этим стало особенно заметно, видимо на контрасте, что из современной российской государственной повестки куда-то исчезло будущее. Чиновники и первые лица перестали говорить о будущем, строить планы, обещать населению какие-то блага, формулировать цели. И в этом, наверное, основное различие с советской повесткой — полетами в космос, пятилетками и обещаниями к концу века построить коммунизм. Насколько для граждан, в принципе, важно наличие этого «будущего»? Или достаточно стратегии «нам бы только ночь простоять и день продержаться»?
— То будущее, о котором люди говорят, не сулит никакой стабильности, лишь перемены. Но мало кому нравится жить в эпоху перемен.
С другой стороны, мы сейчас тоже не имеем стабильности, но совсем по другим причинам. Приходится выбирать между видами нестабильности.
Я не верю тем, кто говорит, что мы или какая-то другая страна отстали навсегда. Сейчас отстали — завтра догоним. В конце концов, отставание создает задел для быстрого развития, это очень удобно. То есть когда, предположим, мы начнем исправлять самые неэффективные и узкие места нашей экономики, то только за счет этой работы над ошибками получим временный, но очень быстрый экономический рост. Поэтому в некотором смысле мы сейчас работаем на будущее, в том смысле, что накапливаем ошибки, которые потом с удовольствием начнем исправлять. Но эти ошибки нам загораживают работу на более передовых рубежах.
У нас просто сейчас другие проблемы. И, соответственно, те проблемы, которые есть, мешают масштабным инвестициям вообще и передовым инвестициям в том числе. Поэтому надо быстрее решить текущие проблемы, чтобы выйти на мировые. С другой стороны, распространение инноваций идет диффузно, и часто, грубо говоря, при самом жутком режиме у людей есть айфон.
— Но создать айфон в таких условиях все равно нельзя.
— Нельзя. Хотя создать какую-то программную разработку для айфона можно. Небольшие инновационные фирмы, у которых не хватает мощи, чтобы разработать айфон целиком, могут создать какую-нибудь деталь или фрагмент, который купит, скажем, Apple или Google. У нас есть диффузное распространение технологий. Но скорости и масштабы не те, которые бы мы хотели, по причинам, о которых я сказал. Наша повестка сейчас — работа над ошибками.
— То есть мы не можем в какой-то момент оказаться на обочине всех этих перемен?
— Я бы больше сказал: мы уже оказались на обочине по каким-то параметрам. Но это не навсегда. В чем-то мы идем вперед. К сожалению, гораздо медленнее, чем могли бы и хотелось бы.
— Можем ли мы, как многие мечтают, стать таким бастионом консерватизма в окружающем мире? То есть везде перемены, а у нас как всегда.
— Видите ли, консерватизм – это политический лозунг. Он не означает, что в стране нет развития. Александр III отличался чрезвычайным консерватизмом по своему мировоззрению, он проводил контрреформы, в отличие от реформ своего отца. Но он не мог остановить перемены. Тем не менее время Александра III — это время сверхбыстрого развития российской индустрии, строительства железных дорог, появления новых банков, и вообще это время экономического расцвета. Хотя на уровне идеологии и политики они сопровождались некоторыми странными довольно архаичными мерами. Да, это не гармонировало друг с другом, это, может быть, заложило некоторые проблемы для будущего. Но тем не менее.
Если у нас сейчас консервативное правительство — это не значит, что у нас нет Сколково и других технопарков. Просто хорошо бы идти не против ветра, а по ветру.
Есть поговорка: от ветра нужно строить не забор, а ветряную мельницу. Мы, к сожалению, строим забор и очень маленькие настольные мельницы, чтобы, если что, их можно было быстро убрать.

 Цивилизация
Цивилизация