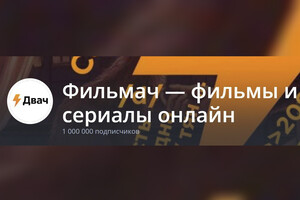Почти два года назад архитектор Рем Колхас рассказал мне, что два инвестора вроде бы собираются основать в Москве Институт архитектуры и медиа. И у Рема, и у меня есть определенный советский опыт, поэтому нам стало любопытно, что эти инвесторы затевают. Мы наблюдали, как над Коулуном зажглись миллионы ламп, превратив город в гигантское световое шоу, и размышляли, стоит ли сотрудничать с этим московским институтом. «Что ты об этом думаешь?» — спросил Рем.
Идея мне нравилась, хотя в последнее время я много работал в Дубае, Маскате, Пекине и Гонконге. Москва не очень-то входила в мои планы. Допустим, я все еще могу изъясняться по-русски, знаю Россию давно. Но насколько хорошо я знаю ее в действительности?
Скорее всего, основным импульсом было смутное предчувствие, и в тот же вечер я пообещал Рему Колхасу в Гонконге, что поеду в Москву.
Вернусь в страну, которой больше нет, в знакомый город, которого не знаю.
Все началось 1 августа 1979 года. C рюкзаком на спине я протискивался к выходу Белорусского вокзала. Снаружи ждал автобус. Ломило кости от двух дней в поезде. Я стоял на раскаленном от жары московском асфальте и втягивал в себя еще не знакомый мне запах советского бензина. Четыре недели назад я сдал выпускные экзамены в ГДР. Следующие пять лет я собирался изучать в СССР квантовую химию.
Город, где находился мой университет, назывался Воронеж. На карте Советского Союза в атласе моего отца он был отмечен крохотным кружочком среди необъятных зеленых пространств…
Ко мне подошел мужчина. Очевидно, он хотел спросить, который час. В течение предыдущих восьми лет я много учил русский: мог, например, описать процесс получения лимонной кислоты или объяснить второй закон термодинамики. Но сказать который час? Я пожал плечами. На большее после восьми лет учебы в ГДР я был не способен...
Сегодня я должен признаться, что Воронеж стал не только моей альма-матер, но и школой жизни. Здесь для скромного восточногерманского юноши, коим я был, открывалась масса возможностей. Хотя сейчас в это трудно поверить, этот город был для меня окном в мир. Сюда приезжали студенты не только из городов и сел мировой коммунистической системы, но и из Квебека, Падуи или Гетеборга. В коридорах общежития сливались голоса Боба Марли, Владимира Высоцкого и Джонни Роттена. В Воронеже я познакомился с некоторыми из моих самых верных друзей: они приехали из Австрии, Маврикия и Москвы.
В Воронеже мои коллеги из ГДР следили за мной по поручению Штази. Здесь я влюбился в африканку. Занимался контрабандой икры. Совершал несанкционированные поездки за Урал и на Кавказ, выписывал в городской библиотеке книги, запрещенные в ГДР.
Было много странного и дикого: неуловимо близкая война в Афганистане, ветераны, сидящие по ночам у костров в городском парке, с орденами на груди, часто искалеченные, горланящие что-то, размахивая пустой бутылкой из-под водки, пока не приедет милиция. Была мокрая экзема, страх перед Штази и перед тем, что при минус двадцати пяти снова может отключиться отопление.
Когда я вернулся в Восточный Берлин, ГДР уже находилась в состоянии склероза и не ответила мне ничем. Лишь только у нашего «старшего брата» началась перестройка, как Хонеккер запретил советские газеты. В 1989 году я вернулся в СССР снова. В Москву. Как журналист советской немецкой газеты Neues Leben.
Москва предлагала многое: вечеринки, концерты, выставки, бесконечные беспорядочные разговоры, как в фильмах Феллини. И снова многому можно было научиться, на этот раз у моих собственных соотечественников. Правда, земляки приезжали из Алма-Аты и деревень Ферганской долины: мужчины под семьдесят, с грубыми лицами и грубыми руками. Они говорили на странном немецком, больше напоминавшем язык Шиллера, чем Хонеккера. Фридрих Крюгер из Дзержинска (!), например. Родился на Волге, в детстве на его глазах умерли братья и сестры во время голода 1932 года. В 1941 по приказу Сталина он отправился в Сибирь, в трудовой лагерь. Да, мне было чему поучиться…
Я чуть было не пропустил падение Берлинской стены. И, как только мир открылся на Запад, я повернулся спиной к своей школе жизни. На 20 лет. Пока Рем в Гонконге не заговорил со мной в первый раз об институте «Стрелка». С тех пор я был в России в общей сложности около 70 дней. В том числе и в Воронеже. Кое-что изменилось, но не так много. Немецкому путешественнику трудно понять, к лучшему или к худшему.
Вдруг я оказался на воронежской театральной сцене и снова должен был говорить по-русски. Я сказал, что раньше надо было пять лет учиться, чтобы получить диплом, а сейчас его дают сразу. Губернатор передал мне неизбежный отлитый в металле памятный подарок и прилагавшийся к нему рукописный текст в рамке — написанная моей рукой просьба о зачислении в университет от 1979 года... Воронеж меня не забыл.
Сейчас я снова часто бываю в Москве. Об этом городе, наверно, можно сказать все что угодно: он декадентский, богатый, бедный, с транспортом катастрофа, в Большом театре больше не продают водку, среди умных людей уже не принято говорить о «содержании», а принято о «контенте» — даже в том случае, если этого «контента» и не видно вовсе.
Можно сказать, что во многом Москва стала нормальным городом. Но далеко не во всем.
Хотя паспортный контроль в Шереметьево уже проходит быстрее, чем в Нью-Йорке, если вы после 25 лет решите снова посетить МГУ и в отсутствие пропуска обратитесь к стоящему на страже товарищу милиционеру, не стоит удивляться, если вам по старой советской традиции укажут на дверь.
Город кишит ресторанами, в которых бокал Pinot Grigio стоит столько же, сколько в Риме вся бутылка, но кое-где на задворках можно обнаружить, что живы еще старые добрые кафе-стекляшки с сосисками и пельменями.
Да, Москва другая. Где еще музейные смотрительницы мурлычут себе под нос оперные арии, как не в здешнем Политехническом музее? Где еще архитекторы, оформляющие станции метро, могут позволить себе придать статус охраняемого памятника гимну, прославляющему руководителя государства, повинного в миллионах жертв? Где еще можно столь открыто дискутировать об ограничении свободы слова?
Институт «Стрелка», который меня пригласил, тоже отличается от других известных мне университетов или мозговых центров. Институт, который ищет пути, как сделать город более пригодным для жизни, — разве это не удивительно?
Разумеется, это возможно лишь при наличии особенных студентов. Некоторым из них столько же лет, сколько было мне, когда я получил в Воронеже диплом специалиста по квантовой химии. Они принадлежат к поколению, которое знает иную Россию, чем я.
Скорее всего, они не строят иллюзий относительно возможности сделать стремительную карьеру дизайнера или политолога на Западе. Они преследуют другую, в чем-то наивную цель: сделать Москву лучше.
Именно эта идея и эта наивность так привлекают меня. Именно поэтому я снова здесь. Причины придраться к этому городу всегда найдутся. Но в настоящий момент мое любопытство сильнее всех этих причин. Москва становится другой именно сейчас. И мне страшно интересно узнать — как?
Автор — немецкий писатель, консультант по вопросам культуры, директор исследовательской темы «Городская культура» в институте «Стрелка». Живет в Риме и Лугано.

 Цивилизация
Цивилизация