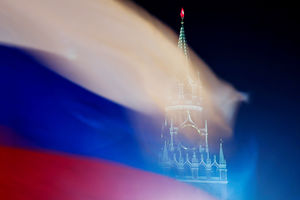Несколько последних лет отечественные власти бодро рапортуют о достижениях в области демографии и здравоохранения. Ожидаемая продолжительность жизни выросла за 2005–2013 годы с 65,3 до 70,7 года – таким темпом она, похоже, не росла еще никогда ни в одной стране мира. Отмечается естественный прирост населения — впервые с 1991 года. Реализован национальный проект «Здоровье» — и приезжающие иностранные специалисты неизменно восхищаются оборудованием российских больниц.
Выполняются «майские указы», растет благосостояние медиков. Однако все чаще звучат слова о том, что за этим кажущимся благолепием скрывается фактический разгром российского здравоохранения.
По итогам 2014 года в России, судя по данным Росстата, было ликвидировано 33,7 тыс. больничных коек из 1,25 млн; сокращено 90 тыс. медицинских работников из 4,4 млн (соответственно 2,6 и 2,0%).
Финансирование медицины все активнее «спускается» с федерального уровня на региональный: из главного бюджета страны в 2015 году на здравоохранение выделено всего 391 млрд руб. — 0,5% ВВП, 6,3% от суммы расходов на оборону. Для сравнения: в США финансирование составляет $1,04 трлн (5,9% ВВП, или 168% от суммы военных ассигнований).
Как следствие, стала расти смертность: в первом квартале 2015 года — на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2014-го. Растет число смертей из-за отказа в госпитализации и из-за плохой работы скорой помощи — а как без нее жить в стране, где 17 тыс. населенных пунктов вообще не имеют медучреждений? Бюрократизация не позволяет получать самые необходимые лекарства даже особо нуждающимся (все знают о почти ежедневных самоубийствах онкобольных, которые не могут приобрести нужные обезболивающие); медики выходят на акции протеста и проводят голодовки.
Я не медик и не специалист в области медицинских технологий — и поэтому остановлюсь только на одной причине умирания российской медицины: экономической.
Здравоохранение во всем мире является важной отраслью экономики. В большинстве развитых стран в ней создается от 9 до 12% ВВП. В США — почти 18%, но это скорее аномалия, вызванная особенностями американской системы финансирования медицины.
Россия унаследовала свой подход к здравоохранению от Советского Союза, который хотя и поддерживал этот сектор во вполне удовлетворительном состоянии, относил его к непроизводственной сфере.
В ходе рыночных реформ это отношение де-факто трансформировалось в трактовку медицины как своего рода «затрат», которые общество несет вынужденно — и это лучше всего объясняет подход нашей политической элиты к здравоохранению. Достаточно послушать об «оптимизации», о которой чиновники говорят взахлеб, чтобы все стало ясно: ведь никто не говорит о том, что надо «оптимизировать», например, инвестиции в нефтедобычу, промышленность или инфраструктуру, чтобы порадоваться падению темпов роста экономики. Повторю: это происходит потому, что нефтянка, промышленность и даже существенная часть сферы услуг воспринимаются «наверху» как производительный сектор экономики, а здравоохранение вкупе с образованием, культурой и т.д. — как затратный.
Парадоксальная ситуация. С одной стороны, государство не готово расстаться с контролем за здравоохранением: так, в 2012 году из 4,43 млн работников данной сферы 4,09 млн, или 92,2%, работали в государственных или муниципальных учреждениях здравоохранения. Подобного показателя нет ни в одной развитой стране: в относительно «социалистических» Германии или Франции он составляет 23–27%, в США близок к нулю.
Это, замечу, вовсе не означает, что государство не финансирует медицину: в упомянутых уже европейских странах доля государственных расходов достигает 77–78%, в США — немного менее 50%. Однако организация медицины во всех успешных обществах радикально отличается от российской: в них врач или больница выступают коммерческим субъектом, который оказывает услугу, за которую платит потребитель.
А как клиент получает деньги для оплаты (достает из своего кармана, обеспечивается государственной или частной страховкой или просит у благотворителей), врача не волнует. Он делает работу и получает за нее вознаграждение.
И только у нас врача может сократить чиновник; только у нас бюрократ составляет список необходимого оборудования для частной клиники; и, разумеется, только у нас самая низкая в мире стоимость исков по врачебным ошибкам — ведь ответчиком в большинстве случаев выступает государство, а оно у нас святое!
При этом я, как экономист, рискну предположить, что «оптимизировать» расходы на медицину у российских властей не получится. Я уже писал некоторое время назад, что в глобальном мире, когда в такой стране, как наша, большинство лекарств и оборудования импортируется, нельзя добиться в разы более низкой стоимости медобслуживания, чем в Европе или США.
Опыт успешных стран показывает, что медицинские расходы по линии государственного (федерального) бюджета и/или централизованных фондов медицинского страхования должны составлять не менее $2,5 тыс. на человека в год — иначе перемен не случится. В России в 2014 году этот показатель составил $244 — и варианта «залить проблему деньгами» в нашем случае не просматривается.
Выход я вижу только один: государство должно снижать не финансирование здравоохранения, а издержки в нем, повышая конкуренцию, упрощая организационную систему и относясь к медицине не как к бюджетной обузе, а как к значимой отрасли экономики.
Как организовано здравоохранение, например, во Франции? Почти все услуги терапевтов, косметологов, гинекологов, стоматологов оказываются частными врачами — подчеркну, врачами, а не частными клиниками (всего доля частнопрактикующих врачей в общей численности медиков составляет… 53%). Это позволяет не покупать дорогостоящее оборудование (аппараты рентгеноскопии и УЗИ, процедурные установки, оборудование для обработки анализов), а отправлять пациента или его биоматериалы в специализированные лаборатории. Оборудование там не простаивает, издержки снижаются.
Врач сам ведет отчетность, занимаясь основным делом. Пациент оплачивает его услуги, а потом получает возмещение по частной или государственной страховке. Все врачи-хирурги, кардиологи, онкологи и т.д. сотрудничают с крупными клиниками, в которых лечатся пациенты, наблюдающиеся у этих специалистов. Клиники заинтересованы привлекать лучших из врачей, с которыми приходят клиенты.
Делается обычный бизнес, а государство платит за то, чтобы его граждане жили дольше и работали лучше.
Да, работодатель во Франции отчисляет в государственный фонд здравоохранения 12,8% от начисляемой работнику зарплаты при продолжительности жизни 82,3 года — а у нас 5,1% при показателе 70,7 года. Решение проблемы в России, на мой взгляд, могло быть наполовину обеспечено повышением норматива отчислений и наполовину — ростом эффективности самой медицины.
Поэтому важнейшими средствами нормализации ситуации в нашей медицине я бы назвал, во-первых, преобразование медучреждений в автономные некоммерческие организации и вывод их из-под контроля чиновников; во-вторых, легализацию частной врачебной деятельности и отказ от «стандартов» оборудования частных клиник; в-третьих, отмену всех идиотских норм, ограничивающих реализацию лекарственных препаратов под предлогами «борьбы с наркоманией»; в-четвертых, предоставление гражданам и юридическим лицам направлять средства, ныне идущие в ОМС, на покупку страховых медицинских продуктов любых страховых компаний.
Если бы такие меры были реализованы, повысилась бы производительность труда медиков и обострилась бы конкуренция между лечебными учреждениями. Это привело бы к естественному сокращению числа врачей за счет выбраковки неучей и тех, кто не способен на нормальное отношение к пациенту; как следствие, не было бы такого диссонанса по количеству как врачей, так и больничных коек на душу населения (в России, соответственно, 4,4 и 9,0 на 1 тыс. жителей, во Франции — 3,6 и 6,1, в США — 2,5 и 2,8).
Другим результатом стало бы повышение доходов врачей — в США без всяких «майских указов» средний медик зарабатывает $186 тыс. в год, что в 5,5 раза превышает доход среднего американца. Но даже это — если бы предложенные меры были реализованы — должно стать только началом реальных реформ в здравоохранении.
Перспективными же направлениями развития охраны здоровья в России, которые определили бы его состояние на несколько десятилетий вперед, на мой взгляд, могли бы стать как минимум три процесса.
Во-первых, это перенесение акцента на тот сектор, который сейчас называют «высокотехнологичной медицинской помощью». За этим термином у нас скрывается наиболее перспективная часть медицинских услуг, которая может стать коммерческим двигателем отрасли. Возьмем, например, операции по замене суставов: в 2013 году в России их провели 76 тыс., а в США — более 1 млн.
Подобные операции давно поставлены на поток, они коммерчески доходны, и в нашей стране нужно делать все (в том числе давать государственные субсидии всем нуждающимся в них), чтобы повысить спрос на подобные услуги.
Только превратив «высокотехнологичную» медицину из элитарной в массовую, мы сможем создать спрос на инновации в здравоохранении, породив рынок, который в будущем станет одним из движителей экономического роста в стране.
Медицина, как и любое производство, должна быть массовой, чтобы стать эффективной. Пока же граждане стремятся так же экономить на своем здоровье, как и государство на здоровье нации в целом, мы не увидим значимых перемен.
Во-вторых, необходимо реформировать фармацевтическую отрасль и производство медицинской техники. Прежде всего, в стране нужно ввести лекарственное страхование, которое имеется повсюду в Западной Европе и без которого страховая медицина, основанная на институтах частной врачебной практики, оказывается попросту бессмысленной.
Кроме того, нужно официально закрепить собственность изобретателей на результаты инноваций и открытий в медицине и фармакологии, даже совершенных за государственные гранты и в государственных лабораториях (известно, что открывший эту возможность в США Patent and Trademark Law Amendment Act стал основой для технологической революции 1980–1990-х годов). Если мы до сих пор верим во всякие Сколковы, нет проблем, но давайте изменим режим хотя бы для медицины и фармацевтики!
В-третьих, сегодня в глобальном здравоохранении начинается революция, связанная со становлением т.н. превентивной медицины. Секвенирование генома позволяет выявлять предрасположенность к диабету за 3–5 лет до появления первых клинических признаков болезни; выявление так называемых подвижных злокачественных клеток (Сirculating Tumor Cells, CTCs) — диагностировать до 40 из почти 200 известных видов онкологии за 2–3 года до образования первых новообразований.
Россия сегодня не в авангарде разработок таких технологий, но это не значит, что мы не можем их применять: в стране, которая не производит ни мобильных телефонов, ни передающего сигнал оборудования, уже достигнуто одно из самых больших проникновений мобильной связи в мире.
Масштабное финансирование превентивной медицины и самых передовых методов диагностики должно начаться немедленно: сегодня те, кто использует новейшее оборудование, несут гораздо меньше затрат, чем те, кто его изобретает и производит.
Тема реформ в здравоохранении практически бесконечна, и можно долго перечислять как наши проблемы, так и чужие достижения. Однако выводы, я полагаю, просты. В мире, где медицина давно стала ведущей отраслью экономики, нельзя относиться к ней как к сфере, которая «производит» только убытки для бюджета.
В условиях, когда врачи становятся одной из наиболее креативных профессий нашего времени, безумно ставить их в подчинение бюрократам. В сфере, в которой важен и свят каждый конкретный человек, не принесут результата подходы, основанные на «законах больших чисел» — а иных государство не знает.
Иначе говоря, проблема российского здравоохранения для меня, как экономиста, состоит в том, что оно является почти единственной отраслью, по-советски организованной в российской рыночной экономике. В таком виде она обречена на долгую и мучительную смерть. Как, видимо, и все те жители страны, кто считает, что все в ней идет «путем»…

 Цивилизация
Цивилизация