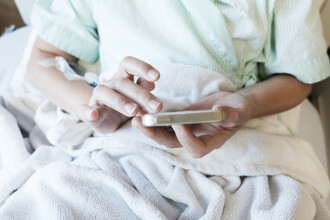Вечером 29 мая, когда было объявлено, что российский журналист Аркадий Бабченко был убит на пороге собственного дома, не было людей, оставшихся равнодушными к его судьбе. В том числе и среди представителей власти: спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила тогда свои соболезнования семье убитого журналиста и обещала, что Россия окажет родным Бабченко помощь.
«Я хочу выразить соболезнования родным Аркадия Аркадиевича Бабченко.
Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы он ни относился к России, но это человек, который в свое время воевал за нее.
Это человек, у которого осталось шесть детей, и Россия готова оказать помощь и поддержку его семье», — сказала в тот день Валентина Матвиенко журналистам.
Для тех, кто был с ним знаком, Бабченко был другом, соратником, идейным противником, — но в любом случае, человеком, с которым было интересно. Неудивительно, что его смерть для них оказалась ударом.
После того как выяснилось, что убийство его было инсценировкой, многие удалили траурные посты. Но есть те, что сохранились.
Илья Азар, журналист
«Господи, Аркаша… Мы не были близкими друзьями, но, конечно, нередко выпивали (кто тут не выпивал с тобой?), и в последнее время уже не осталось сил спорить с тобой про Россию и Украину.
...Помню Цхинвали, война с Грузией. Я, совсем еще зеленый, вообще не понимаю, что делать и как. Кто-то говорит, что сейчас вот-вот Сулим Ямадаев поедет с «Востоком» на фронт и можно как-то вписаться «на броню». Я, конечно, не смог. Аркаша смог, конечно, и я завидовал, хотя мы были еще незнакомы, а потом ты рассказывал, что колонна попала в засаду, и
вы еле выбрались живыми, а ты кого-то тащил на руках из под обстрела в укрытие».
Илья Азар вспомнил и о событиях конца февраля 2014 года в Киеве на Институтской улице: »...вверх упорно ползут самоубийцы с деревянными щитами, и где-то рядом отчетливо свистят пули. Ты тоже тут, наверх не идешь (как некоторые фотографы), но совершенно спокойно рассуждаешь, что да, это снайперы но, судя по звуку, там, где мы стоим, безопасно. Хотя, может, и нет».
Илья Жегулев, журналист
«Аркаша, мой любимый оппонент и самый сердечный, мудрый человек среди всех нас, пьяниц.
Он никогда не боялся быть против всех, даже друзей.
Говорить неприятные вещи, спорить с улыбкой, но до конца. Вряд ли бы он вам подставил левую, если бы вы его ударили по правой, хоть он был удивительно мирным и добрым человеком, несмотря на все то, что он прошел. И тот, кто застрелил его так подло, в спину, трусливо и мерзко, тот не заслуживает даже собачьей смерти».
Вера Челищева, журналист
«Январь 2013. Сад Эрмитаж. Пригласила всех на каток. Кататься пришли единицы, включая Бабченко. Правда, пришел без коньков и в прокат брать не стал. Стоял на льду в потрясающих унтах и миролюбиво попивал из фляжки коньяк, наблюдая за нами и комментируя наше скольжение. Потом выяснилось, что маленькая дочка Александра Черкасова (председатель Совета правозащитного общества «Мемориал» -— «Газета.Ru») Маша, которую он оставил нам на попечение, а сам ушел в «Мемориал», осталась без обуви. Папа ушел в «Мемориал» вместе с обувью.
Ждать папу не стали, Аркаша посадил Машу на плечи и понес в машину.
По пути на Каретный нас тормознул патруль, полицейский открыл багажник, потом заглянул в салон, увидел девочку Машу в коньках и спросил у нее, добровольно ли ее везут. Мы все заржали вместе с Машей. Нас отпустили… Это самое теплое воспоминание о нем. До всяких внутренних расколов, расхождений очень многих с ним и до самой ужасной войны. Да и какое дело теперь до этих расколов? За слова не убивают. Он был такой какой был. Знаю: в душе очень добрый. Прощай, Аркаша. И извини…»
Елена Костюченко, журналист
«Очень его любила. Его «10 серий о войне» — лучшее, что написано про Чечню, и одно из лучшего, что написано про войну вообще. Много раз напивались с ним — шампанским почему-то. Танцевали — он любил танцевать.
Очень ругались. Говорили друг другу всякое. Реально бесил.
Верила в его бессмертие. Что его-то — никогда и ни при каких обстоятельствах. Он очень любил жизнь, а жизнь любила его. Сильный, смелый, красивый, смешной. Уставший, выгоревший. Непобедимый. Мы вас найдем».
Александр Морозов, политолог, публицист
«Как и многие, я читал Бабченко в ЖЖ десять лет назад и уже тогда хорошо видел, что при всей критичности взгляда он был чрезвычайно патриотичен. И позже, когда он бесконечно повторял, что «родина бросит тебя, сынок» и все подобное, включая «танк Абрамс», на котором он когда-нибудь приедет, и когда слал насмешливые инвективы бессильному обществу, которое он, как ему казалось, покинул — было ясно, что пишет это не равнодушный «полемист», а человек «болеющий Россией». Весь стиль и пафос его насмешки над Россией были следствием его патриотизма.
Понятно, что мы все любим свою страну. Но с разной степенью туго натянутого жгута — у Бабченко это была очень короткая дистанция, очень резонирующая, нервная.
Я понимал, что он хотел бы «служить России». И что он постоянно обращался к России — как к матери (поэтому и «сынок»). И он, конечно, не был либералом по взглядам, а просто в каждом случае хотел быть справедливым и честным без какого-то специального идейного основания — и поэтому всегда высказывался в поддержку слабых, жертв насилия, преследуемых.
Очевидно, что он просто очень остро пережил и неудачу протеста 2011-2012 гг., и затем российское вмешательство в Майдан, и судьбы крымских татар. Он смотрел на это не с «политической» точки зрения, а, если сравнивать, то как Высоцкий, примерно, как Шукшин, т.е. с позиций «мужицкой честности». Такой голос, как у него, можно ясно услышать, читая, например, отчеты КГБ СССР в 1968 году о высказываниях некоторых советских офицеров по поводу Чехословакии — верные присяге, они осуждали вторжение и «переживали».
И как всякий «старшина запаса», Бабченко долго сторонился всякой «общественности», считая, видимо, что «там его не поймут». Он любил Россию своей острой простой армейской любовью и не мог смириться с тем, что «мать валяется пьяная в канаве» (говоря словами Розанова)».
Ксения Голубович, писатель, критик, переводчик»
«Наше личное знакомство насчитывает 2 дня и минуты, разрозненные во времени. Девять лет назад — около 12 часов. Надо было готовить текст для нашего проекта «Словарь войны», и мы встретились с Аркашей впервые. Ему предстояло выступать наравне с философами и интеллектуалами, и из массы и груды его биографического и свидетельского опыта мы должны были вывести как бы одно понятие, самое важное, которое все определяет.
Мы провели в тот день вместе 12 часов в сознании и общую ночь, когда мы его сторожили. Страшных часов в сознании — потому что это был день убийства Натальи Эстемировой. Аркаша пил, говорил, рычал, и вместе с чеченским опытом выходило уже нечто иное — его новая война. Он посадил нас в машину под ночь, чтобы завезти домой. Он не хотел быть один.
Ехать было страшно — я никогда не ездила в машине с человеком, который ведет мирную технику как водят на войне. Буквально все взрывалось — границы тротуаров, стены домов.
«Ребята, я домой не поеду. Не могу. Придется оставить меня ночевать». Снова говорили, он заснул. Мы спали по очереди. Так прошел день. Результатом потом стал невероятный текст, о котором многие знают, «Круг войны» — о том, как ты входишь в войну, как меняется твое тело: звук, цвет, запах (он говорил, что мир перестает быть цветным), и как потом ты больше не можешь из него выйти. Или как страшно долго идти назад. «Последней — сказал он — возвращается способность любить».
Я потом поняла, почему он все девочек удочерял — в чем-то был прост, как ребенок: он не видел в них ни следа войны. Он мог их любить, не думая о будущем. Он закончил текст в 5 часов утра того дня, когда его надо было читать. И читал его так, как будто снова вел ту машину.
Второй раз мы виделись в американском посольстве на приеме. Из всех тех, кто был там — он, по сути, самый известный, молчал. Все «штатские» говорили, спорили, шутили. «Ты чего?» — спросила я. «Я — ничего. Я тут наблюдаю». Как будто снова смотрит откуда-то из того же самого круга, и на посла, и на нас, и на всю ситуацию, на Америку, на Россию.
Может быть, его единственной родиной были те, кого он оставил на войне, неважно, на какой стороне. Он говорил от их лица. От имени тех, павших, из их этики. И каждый раз, когда попадала на выступление его — то же чувство: читает и говорит, как будто ведет эту чертову машину. От имени павших. Ведет один. Потому что рядом нет таких же своих. Кто-то сказал, что Аркаша — это во всех смыслах последняя граница нормы. Ну вот. Теперь на ней никого больше нет. Господи, спаси и помилуй».

 Цивилизация
Цивилизация