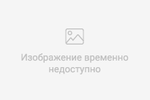Бомбардировщик По-2 был учебным самолетом У-2, на котором до войны в аэроклубах учили летать всех наших летчиков. Это был деревянный самолет, на плоскости которого был натянут материал перкаль. Вот здесь, под крылом, у нас были бомбодержатели. Что значит бомбодержатели? Это мы сами придумали, как мы будем бомбить. И, придумав, когда учились еще в Энгельсе, сказали, что это мы придумали ППР, что называлось «проще пареной репы».
Парашютов не было, они появились лишь в 44-м году…
Я считаю, что это была ошибка Верховного командования, что они выпускали эти самолеты в бой, не дав экипажам парашютов.
Дали нам эти парашюты в 44-м году, когда сгорели Макарова и Белик. У нас много было хороших экипажей, очень были бесстрашные девки. Можете себе представить: вот над целью падает и горит самолет, твоя подруга в нем сгорает, а девки пишут юмористические стихи. Понимаете? Какое-то вот... ну такое восприятие мира, другое, которое так просто понять нельзя.
Наташа Меклин, Женя Руднева и Ира Каширина — это три девчонки, которые выпускали у нас стенную газету «Крокодил». Я, как начальник штаба полка, не знала об этом ничего. Они делали это для себя, на каких-то старых бумагах.
Одни горят – а другие выпускают юмористическую газету.
Ночные ведьмы
Когда Марина Раскова начала делать бомбардировочный полк, то обнаружила, что штурманов-то нету. Штурман показывает маршрут, штурман бомбит, штурман вычисляет скорость ветра и говорит, куда сносит самолет. Мы провели первый отбор, по 12 девчонок из каждого райкома комсомола Москвы. Для того чтобы штурманом быть, надо было быть грамотным. Уметь посчитать: вот, сила ветра такая, снос такой — мы летим туда…
Мы летали с погашенными аэронавигационными огнями. И летали по одному. Потому что мы не могли летать строем, сразу по три самолета. Каждый мог на другого налететь, и у нас был такой случай. Могли сесть на другого, могли сбить другого. Мы не могли этого допустить... Поэтому мы летали с погашенными огнями, без парашютов, без радиосвязи.
Только один несчастный этот самолетик У-2. А самолетов этих было тогда у нас по стране до черта.
Я хочу вам сказать, мужики, вы не представляете, что такое был Южный фронт. Это было бегство нашей армии. За немцами, которые стремились пройти к нам, к нашим источникам нефтяным. Мы пришли на этот фронт, и мы шли по этим дорогам, летели по этим дорогам, вслед за немцами, впереди них... Южный фронт — это был страх божий.
С Южным фронтом мы отступали до предгорий Кавказа. Эльхотово, потом под подножьем Владикавказа была у нас остановка в станице Ассиновская. Эта чеченская станица была последней точкой, куда мы отступили. И оттуда мы начали летать на Кубань, на наши поселки, через которые мы проходили, на наши маленькие города, где стояли немцы, на Терек.
Станица располагалась на краю яблоневого сада. И нам построили переходы через арык, чтобы мы могли затаскивать хвосты наших самолетов на день туда, в сад. Чтобы сверху немцы не видели, где наши самолеты. Я помню, как к нам приехал командующий армией Вершинин, который получил наш полк одним из первых. И нам потом говорит:
«Ну как вам не стыдно, боевые самолеты стоят, а у вас на боевых самолетах женские трусы сушатся. Это же стыдно».
Стыдно, но где-то надо было сушить. И надо их сшить из чего-то было, порой из портянок. Вечером все экипажи садились в самолеты. И в этих самолетах, кладя руку на борт, спали. В этих самолетах сидели всю ночь. Если за это время облачность поднималась, туман рассеивался, разведчик нам сообщал, что можно летать, то наши самолеты выруливали из этих арыков и быстро вылетали на немцев.
Мужики, которые в соседних мужских полках были, над нами искренне хохотали: «Бабы пришли, «дунькин полк» какой-то, воевать». И поднимали нас на смех. Мужской полк — такой же По-2 — сидел у себя в сарае, где им делали там для спанья какие-то койки... И, когда туман рассеивался, им подавали машину, они надевали штаны, их привозили на аэродром и они вылетали.
За то время, пока они надевали штаны, садились в машину, ехали, мы делали один боевой вылет.
Деревня Пересыпь стояла на Таманском полуострове, упертая в пролив перед Крымом. И мы очень долго там стояли, и оттуда еще с 1943 года летали преимущественно на Крым. Вокруг Керчи образовалась такая десантная полоса, где было очень много наших войск. Мы туда летали на высоте 1200—1300 метров. Подлетали тихонечко. Потом убирали газ – и начинали так вот тихо, планируя, спускаться на цель. Спускались до того... до 500 метров, при этом немцы нас не видели. А когда мы спускались до высоты вот 400—500 метров, мы начинали бомбить. И тогда мы становились видимыми.
Одна ночь у нас была вообще такая трагичная... Немцы нашли ночной истребитель и послали его против нас. Он пришел туда, где мы летали, нас ловили прожекторы, и мы в лучах прожектора были отличной мишенью.
И он сжег три наших самолета. А мы стояли и видели, как вот эти самолеты огненной такой палкой падали на землю.
Позднее мы прилетели в Крым, сели там на маленькой полоске, ведь нам не надо было аэродромов готовить. Справа от нас было село, которое запасало на зиму продукты, и они нас покормили. А слева было село, которое уничтожили враги. И там до последнего дома все сжигали, людей, детей убивали. И когда мы там остановились, между этими двумя селами, немецкая группа штурмовиков возвращалась с боя. Они увидели наши самолетики, и по нам отбомбились. Это был единственный раз, когда я лежала в земле и думала: «Господи, какая я большая, и какая я здоровая, ну почему у меня такие ноги толстые, они торчат, а я лежу, и они нас бомбят».
После этого мы как-то очень быстро прошли к Симферополю. А оттуда ночью перелетели к Севастополю. Рядом был мыс Херсонес, и мы этот мыс бомбили сверху. А немцы, потеряв Крым, стали присылать большие самолеты, чтобы вывезти своих людей. И вот садится у нас большой самолет, выходит летчик и кричит: «Севастополь?» Ему наши говорят: «Севастополь!» А под колеса загоняют что-то, чтобы он не мог полететь.
Это была весна 44-го года. Нам выделили площадку, а наши мужские полки, зная, что тут стоит женский полк, над нами делали всякие выкрутасы, приветствовали нас — стреляли, крутили «бочки»... А мы же спим, мы же ночью летали, мы же не можем днем смотреть, что тут над нами делают. Пришлось мне заявить в штаб дивизии, и наш аэродром сделали закрытой зоной.
Когда мы подходили к Германии, то там вдоль границы были концлагеря. И наши бойцы сидели в этих концлагерях. И мы видели, как выходили оттуда худые, бледные, в полосатых каких-то жилетах, в полосатых штанах мужчины, плакали, махали нам руками. Это были те, кого мы уже освобождали из концлагерей немецких. Для них были поданы теплушки, и их повезли в наши концлагеря.
Прямо из концлагерей немецких они попали в сталинские концлагеря в Сибири.
Но мы воевали за Россию. Мы воевали за наших русских парней и девочек. Мы воевали за нашу землю. Мы никогда, ни на одном самолете не писали, что летаем за Сталина, Компартию или что-то… это было внутри нас. Мы видели в Краснодаре, как немцы сажали наших военнопленных и раненых в санитарные машины. Как эти санитарные машины они потом гнали ко рву, открывали заглушку, и пускали туда весь дым. Люди там умирали, и вот тела наших военных выбрасывали в ров... Мы это видели.
Свинемюнде, край Восточной Пруссии, — это была последняя точка, куда мы летали. Там был короткий залив с подземными помещениями. Немцы в этих подземных помещениях строили свои ракеты V-2, которыми они собирались всех победить и выгнать с немецкой земли. И последние полеты, которые у нас были восьмого числа, у нас летал еще самолет с бомбами на Свинемюнде. Я сидела в штабе — и вдруг слышу крики, орут девчонки. Выхожу и вижу: везде стреляют красные, зеленые, желтые ракеты. Что такое случилось? Оказывается, у нашего старшего техника был приемник. И она услышала по приемнику, что война кончилась. И вот тогда девки, полуголые, в этих трусиках и лифчиках, и стали палить из ракетниц в воздух, для того чтобы показать, что война кончилась.
Из ведьм в студенты
После войны мне надо было досдавать экзамены за те курсы на физфаке МГУ, которые я пропустила, за пятый-шестой курс. И в подготовке к этим экзаменам я чувствовала себя дура дурой.
Я стала понимать, что человек складывается из двух половинок. Одна половинка – как ты себя вел во время войны... Что ты делал, как ты воевал, как ты боялся, не боялся — как ты все это делал. Кончилась война, ты вернулся в мир. И что ты стал делать? Мыть кастрюли, мыть полы? Или вернулся к науке? Или вернулся к тому, чтобы родить двух детей и положить себя на воспитание этих детей? Вот так я сделала. Я положила себя на воспитание двух своих сыновей. Постепенно я их учила, я их поправляла, с ними работала. А меня все время куда-то ставили.
То была деканом факультета повышения квалификации, 25 лет. То я была председателем женсовета. То я была заведующей лабораторией по космосу.
И самое главное в жизни у меня стали дети. Мне надо было их поднять. Андрюшка был мальчик такой взрослый, он с шести лет у нас читал. В шесть лет пошел в школу — такой был ранний. И потом они очень с младшим братом дрались, и мы их с мужем как-то вот разводили. Андрюшку отдали в школу, Колю в сад. Ну как-то так сделали, чтобы они разошлись.
Сейчас Николай (Николай Линде, президент психологического центра. – «Газета.Ru») создал центр психотерапии. А Андрея (Андрей Линде, профессор Стэнфордского университета, автор инфляционной модели Вселенной), физика, пригласили в Стэнфордский университет и он остался там. В 1983 году он опубликовал свою работу по Большому взрыву, а экспериментаторы сказали: это не подтверждается, это все ерунда. А он больше ничем не хотел заниматься, он только хотел эту свою Вселенную развивать.
Недавно были найдены первичные гравитационные волны, подтверждение его инфляционной теории, которую он 30 лет носил на груди.
Сейчас его стали захваливать. А он говорит: нет, 30 лет назад я это предложил, и я дождусь, пока будут неоспоримые экспериментальные подтверждения. Вот так он там и живет, с этой со своей теорией инфляционной.
Ну что я могу сказать про Украину…. Я считаю, что в том, как повела себя Западная Украина сейчас с нами, в ее нападении на Восточную, это безобразие. Но в то же время я понимаю, что мы сами в этом были виновны. В свое время мы присоединили к себе Западную Украину, присоединили к себе Западную Белоруссию, Литву, Латвию и Эстонию. Я ездила по этим местам, я это видела, неправильно мы сделали. Но в то же время это было сделано в 45-м году. И прошло сколько лет — 60 или 70 лет... И сейчас, 70 лет спустя, Западная Украина кидается на Восточную и своих, украинцев и русских, говорящих на украинском языке, убивает — ужас.
Видите ли, я воевала за Крым. Я прошла Крым с начала до конца. И для меня Крым всегда был нашим, русским. И для меня присоединение Крыма к России было естественным — понимаете?
У нас было как-то такое отношение к Путину — не такое, как сейчас. Мне кажется, что сейчас он повел себя благородно. Потому что я пережила всех наших секретарей ЦК, я всех их видела, начиная с первых. Ну всех я видела, все прошли мимо меня.
9 мая будет ректор устраивать митинг по поводу Дня Победы и потом приглашать к себе на прием, на обед. Я туда не пойду: мне это уже тяжело. Буду встречать дома, со своим сыном, с Николаем Дмитриевичем.

 Цивилизация
Цивилизация