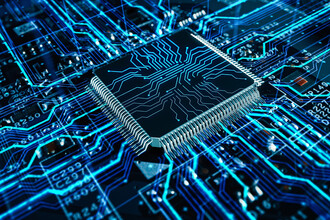— Вопрос Дмитрию. В съемках приняли участие российские звезды первой величины. Воплотили ли они на экране написанных вами персонажей — или переосмыслили по-своему?
Дмитрий Глуховский (признан в РФ иноагентом): Для меня это процесс удивительный и магический: актер натягивает на себя костюм и маску из букв, и то, что было просто сплетением экранных пикселей, мыслеформ, вдруг становится живым человеком. После того, как актер интерпретировал роль, когда образ создан, я больше не могу уже вспомнить, каким представлял себе своего персонажа сам — актер своей игрой полностью из моей памяти и воображения мои фантазии вытесняет. Я считаю, что каждый артист, занятый в «Топях», оказался и выбран удачно, и режиссерски размят, и направлен в нужное русло мастерски. Да, они переосмысливают роли, но благодаря этому мои герои из двухмерных становятся трехмерными, из глиняных големов — живыми.
— Насколько совпадает ваш взгляд на историю «Топей» с тем, как их снял Владимир Мирзоев? И сразу вопрос Владимиру: что вы для себя выделили самым важным в сценарии?
Д. Г.: Владимир Владимирович в целом отнесся к сценарию бережно, с любовью. Из расхождений по ощущениям — наверное, то, как изображена сама деревня Топи: в моем представлении она была более современной, более буквальной, более настоящей. У Мирзоева она становится более сказочной, более метафорической. Но тут как с актерами: посмотрев наше кино, я уже целиком на стороне режиссера, я верю его интерпретации, я уже начинаю забывать, каким это все виделось мне. Мне важно, что историю, героев, диалоги Мирзоев перенес в кино аккуратно, ничего не расплескав. Это именно то, что я хотел рассказать зрителю.
Владимир Мирзоев: «Топи» — это развернутая метафора аномальной реальности, в которой мы всем миром оказались. Для меня это самое главное и самое интересное.
— Дмитрий, «Топи», кажется, ваш первый проект, который появился сразу в виде сценария. В чем для вас разница между написанием книги и последующей ее переработкой и созданием сразу же экранно-ориентированного сценария?
Д. Г.: Обычно сценарии конструируются по строгим драматургическим схемам, отклонения от которых неизбежно приводят к потере зрительского внимания. Поэтому, когда адаптируешь книгу, надо думать о том, чтобы уложить сюжет романа в прокрустово ложе кинодраматургии: тут оттяпать ноги, там — голову. Ну и от внутреннего мира героя без возможности интроспекции остается немного. Но когда я писал «Топи», я решил, что не стану строить сценарий по обычным сериальным лекалам — пять равных актов, поворотные точки в конце каждого из них и так далее. Вместо этого я возьму темп повествования, как в романе, и только в концах каждой из серий оставлю по крючку-клиффхэнгеру. Так что «Топи» больше на книгу будут похожи, чем на сериал.


Кадр из сериала «Топи» (2021)
RSS Production— В промо-ролике вы сказали, что телевизор вряд ли смог бы пропустить что-то подобное. Речь идет о форме (насилие, эротика, излишний сюрреализм) или об идеологическом содержании?
Д. Г.: Просто это жесткий сериал. Жесткий и психоделический. И темы, которые он затрагивает, на телевидении у нас не поднимаются, и то, как они обыграны, как сняты — явно для нашего слащавого и очень условного телевизионного контента не форматны. А так, да: насилие у нас есть, эротика у нас есть, сюрреализма у нас хоть отбавляй. Уверен, что скучно вам не будет.
— В описании проекта вы говорите, что это «сериал о том, какой ценой люди нашего поколения, которые никогда не сталкивались в жизни с настоящими испытаниями, готовы выкупать свою жизнь и свободу». А какой критерий делает жизненные испытания «настоящими»?
Д. Г.: Ну есть, очевидно, шкала испытаний, по которой можно сверять и тяжесть своей жизни, и свою готовность к героическим свершениям. Потеря комфорта, потеря свободы, потеря здоровья, потеря жизни. Как-то так, наверное. Когда ты рискуешь своей свободой, в самом что ни на есть буквальном, уголовно-исполнительном смысле, это критерий. Когда ты рискуешь своей жизнью, это испытание самое настоящее, более настоящего придумать трудно. Люди нашего поколения с такими испытаниями почти не сталкивались, хотя, возможно, им это еще предстоит.
— Как вы считаете, настоящая природа человека проявляется в его повседневном обращении с окружающими или в экстренной ситуации, когда человек может полностью преобразиться на какое-то время, а потом снова вернуться к прежней жизни?
Д. Г.: В повседневном общении проще использовать маски, изображать из себя то, что делает тебя социально приемлемым — в зависимости от социума, в котором ты хочешь быть принят. В экстремальных ситуациях проявляются как отвага и трусость, милосердие и жестокость, жертвенность, коварство, честность. Не все люди себя знают хорошо, и не все хотели бы оказаться экзаменуемыми на эти качества. Не уверен, что я бы хотел. Война такие свойства выявляет — но что же, те, кто себя без свидетелей нехорошо на ней проявил, неужели, вернувшись домой, не сумеют притвориться прежними?
В. М.: Видимо, оба варианта корректны. Но метаморфоза человека в экстремальных ситуациях не имеет обратного хода. «Вернуться» к себе прежнему нереально (почти).
— Герои сбегают от себя к монастырю в глубинку. Чувство стыда, совести — один из краеугольных камней религии. Можно ли назвать здоровым чувство неприятия себя?
Д. Г.: Чувство стыда и совести — один из главных рычагов, при помощи которых религия управляет человеком, заставляет его менять свое поведение. Но тянутся люди к Богу за другим: за принятием, за прощением, за успокоением, за ощущением осмысленности своей напрасной жизни. То, что люди себя могут не принимать, — нормально; когда человек себя принимает безоговорочно, восторженно себя любит и все себе прощает — это куда опасней.
В. М.: Это сложное, болезненное состояние называется «кризис». Штука в том, что без кризиса нет развития, эволюции сознающего человека. Само наше рождение — это кризис. И смерть тоже.


Кадр из сериала «Топи» (2021)
RSS Production— Можно ли назвать сериал метафорой нового побега россиян от правды о себе в мир упоения собственным стыдом — «Да, мы плохие, зато так сильно сожалеем об этом, что уже снова хорошие»? И чего вообще мы так боимся узнать о себе?
Д. Г.: Россияне, во-первых, ни о чем не сожалеют. Во-вторых, правды о себе они знать не хотят. Мы готовы иногда предаться самоуничижению, но если кто-то извне посмеет нас критиковать, реагируем мы очень болезненно; да и самоуничижение наше скорее причитательное, без попыток честного самоанализа. Мы не хотим ворошить прошлое. Боимся доискиваться до корней наших бед: может, потому что начнешь копать — а там кости человеческие, кости. И кто кого убивал — то ли наши деды, то ли наших дедов, неизвестно. Лучше мы копать ничего не будем, фундамента строить не станем, а поставим тут времяночку какую-нибудь, в ней перезимуем.
В. М.: Мы не плохие и не хорошие — мы просто люди. В любом человеке, не только в автохтонах, есть и свет, и тень. Но наше общество чудовищно травмировано ХХ веком. Слишком много всего ужасного пришлось пережить нашим отцам и дедам. Эти травмы, если они не отрефлексированы в культуре, выводят на историческую сцену Тень — о ней очень точно написал Карл Юнг. Но мы боимся открыто сказать: «Тень, знай свое место».
— Экскурсии по Соловкам оставляют чудовищное впечатление не только из-за событий прошлого, но еще и по причине рассказов экскурсоводов и местных жителей об их текущей жизни, а также из-за состояния, в котором находятся исторические объекты. При этом за право принятия решений о восстановлении Соловков ведут борьбу РПЦ и Фонд по развитию архипелага. Чем можно объяснить зазор между риторикой официальных лиц и почти не изменившимся с советских времен уровнем жизни на Соловках?
В. М.: Такие места памяти, как Соловки, — слишком тревожное напоминание о той духовной, антропологической катастрофе, которая случилась с нашим народом совсем недавно. По историческим меркам семьдесят лет — это мгновение. Нынешние правители России не хотят тревожить эти тени. Они считают себя наследниками тех, кто был причиной или инструментом этих бед и преступлений. Я могу понять эти чувства.
Но и наследники должны понять чувства тех людей, чьи близкие погибли в этой адской машине. Это единственный путь к гражданскому миру. Это позиция истинных, а не фейковых христиан.
— В описании проекта говорится, что герои попадают в «хтонический мир русской глубинки, где никакие понятные правила больше не работают». Вам не кажется, что выставляя провинцию «хтонической» и «непознаваемой», мы фактически отказываемся от попыток решить проблемы местных жителей — ведь «никакие правила там больше не работают», зачем же тогда что-то пытаться менять?
Д. Г.: Не стоит воспринимать деревню Топи из нашего кино как буквальное представление москвичей о том, как выглядит и чем живет русская деревня, условное Замкадье. Это глубинка скорее однокоренная глубинам подсознания. Лично для меня русская деревня, какой она отображена в Топях — тот мир, где я провел большую часть моего детства и отрочества. Моя мать из маленького городка в Костромской области, я там все свои каникулы прожил, а до школы меня туда и вовсе на полгода отправляли, ровно в это: деревенская изба, колодец, русская печь, нужник на сарае, огороды бесконечные, леса, реки. Но почти все взрослые, окружавшие меня тогда в том мире, уже умерли, теперь я вижусь с ними только во снах. И для меня этот мир, мир русской деревни, естественным образом стал неким посмертием, явью-мороком, миром магического реализма и неосознанного. Как в нем менять что-то?


Кадр из сериала «Топи» (2021)
RSS Production— Не так давно по телевизору прошел мистический сериал «Территория» о москвичах, столкнувшихся с духами коми-пермяцкого региона. Жители жаловались на то, что их изобразили дикарями, а местный шаман выражал надежду, что это лишь первые шаги по направлению к популяризации региона и его культуры. Что нужно для появления серьезного продюсерского проекта, где реальные и мистические проблемы будут показаны не через оптику жителей столицы?
Д. Г.: Сериал «Территория» — полная шляпа. Посмотрел до конца и плакал кровавыми слезами. Замах на рупь, удар на копейку. Переделайте и покажите еще раз.
В. М.: Реальные и мистические проблемы? Гм… Даже не знаю, что вам посоветовать. Думаю, каждому региону нужна своя полноценная киностудия. Давайте вспомним, что Россия — это федерация, а не унитарное государство с весьма шаткой вертикалью и ловким ручным управлением.
— Ставили ли вы перед собой задачу сделать вклад в формирование облика региона?
Д. Г.: Деревни Топи на карте России нет, в том числе и на территории Архангельской области, хотя вот Мудьюга, которую герои проезжают, — существует. Но Топи — это не портрет региона и не шарж на него. Топи как бы нигде, но как бы и везде. Это, да, кино про москвичей и про внутренний туризм, но гораздо в большей степени это история про туризм столичного яппи-циника внутрь себя, чем внутрь отдельно взятой административно-хозяйственной единицы РФ.
— Западные хорроры часто начинаются с чего-то мистического и пугающего, однако в конце всегда происходит попытка найти рациональное и практическое объяснение происходящему, а у героев появляется шанс своими силами справиться с ужасом. Почему в нашей культуре происходит наоборот: герои часто начинают с абсолютно бытовых сцен, а в конце сталкиваются с силами, которые может остановиться только некий «deus ex machina», часто — религиозного происхождения?
Д. Г.: В Америке мораль протестантская, в центре нарратива — человек, все силы для преодоления обстоятельств и стихии скрыты у него внутри, надо лишь доискаться до их источника — в самом себе. На бога надейся, а сам не плошай. И история у них соответствующая, может быть, потому что государство никогда не было всесильно, не приходилось ни одному из поколений американцев сталкиваться с силой, борьба с которой для одиночки обречена. Никогда государство не вело себя иррационально, как у нас.
А мы сначала жили под богом, в чувстве, что от человечка ничего не зависит, и источники сил, и источники бед все находятся вовне, а потом случился с нами коммунизм, и эта внешняя громадная, непреодолимая сила, с хрустом перемалывающая миллионы человеческих хребтов ради неуловимых туманных целей, обрела конкретное воплощение. Когда у нас от одного простого человека, от бытового героя что-то зависело? Он только умереть мог красиво, в надежде на то, что государственная пропаганда впишет его в школьные учебники. Но людей умирали миллионы, а в учебниках тесно. Ну и такова наша инерция культурная — все объяснять мистикой, обстоятельствами непреодолимой силы, божьей волей. Такое быстро не переменишь, не переломишь.
В. М.: Мы живем в транзитном обществе и в транзитное время. Это долгий и мучительный переход к цивилизации нового типа. Возможно, он займет весь XXI век. Главный вызов, по-моему, звучит так: рационализм в кризисе, если не в тупике, религиозное мышление тем более. Человечеству нужен принципиально новый синтез науки и метафизики, нужна общая картина мира — иначе войны, конфликты, терроризм не остановить. Если говорить о России, многим нашим соотечественникам свойственно мифопоэтическое мышление. Это не удивительно, ведь в начале ХХ века Россия была по преимуществу крестьянская страна, 87% населения — крестьяне. Почти все мы, так или иначе, потомки крестьян — архаика у нас в крови.


Кадр из сериала «Топи» (2021)
RSS Production— В перестройку Тенгиз Абуладзе снял фильм «Покаяние» с крылатой фразой «Зачем нужна дорога, если она не ведет к храму». Как вы относитесь к этой идее сейчас?
Д. Г.: Из последних храмов мне больше всего запомнился официальный храм Вооруженных Сил РФ, и дорога к нему ведет отличнейшая: Новорижское шоссе, четырехполосное, скоростное. Перестройка кончилась, началась Реставрация. Абуладзе не угадал.
В. М.: Я согласен с Тенгизом Абуладзе. У каждого человека и у каждого народа должна быть высокая цель. Храм — это метафора идеализма, возвышенного целеполагания. Жить ради того, чтобы заработать (или украсть) как можно больше бабла — это просто нелепо.
— Религия всегда была спасением для россиян, оказавшихся в безвыходном положении, — через смирение она давала надежду и силы переждать лагеря и войну. Сейчас «искусство быть смирным» все чаще и чаще называют причиной многих социальных бед. Для вас духовность больше связана со стремлением преобразить этот мир — или несет более религиозный смысл?
Д. Г.: Меня вообще не столько бог интересует, сколько богоискательство. Как и почему внуки тех, кто жег церкви, их восстанавливает? Почему человеку без бога в мире неуютно? Почему он доказательства его отсутствия отвергает? Почему внутри человека без бога вакуум? Почему заполнение вакуума позволяет ему от проваливания внутрь себя уберечься? Как можно этим человеческим свойством управлять? Кто и как нами при помощи нашей тоски по смыслу, по предназначению, помыкает? Верят ли во что-то политики, церковные иерархи? А им бог зачем? Как они себя оправдывают? Доказывают ли чудеса существование бога? Доказывает ли их отсутствие обратное? И сколько русский человек намеревается ждать чуда? Вот что интересно.
В. М.: Я согласен, что фантастическая адаптивность российского общества играет двоякую роль: и помогает выжить в аномальных обстоятельствах, и ведет к революционному обвалу системы. Как выйти из этой исторической петли, я не знаю. Но, говоря конкретно о христианстве, хочу напомнить единоверцам: христианство — это деятельная религия. Сидеть на печи и ждать, пока все само собой как-нибудь переменится к лучшему, — это не путь христианина.

 Цивилизация
Цивилизация