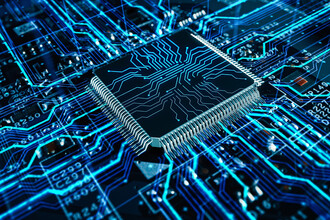— Вы много говорите об оппозиции цивилизации и культуры. Чем обусловлен такой дискурс? Не может ли быть, что консервативные россияне боятся прихода цивилизации в лице новых технологий, которые грозят посягнуть на культуру?
— Не знаю, испытывают ли россияне ужас от прихода, так сказать, цивилизации. Как-то я этого не наблюдаю, потому что все то, что приносит цивилизация в буквальном смысле слова – только на радость и на обеспечение россиян каким-то комфортом, какими-то удобствами. Начиная от мобильных телефонов и компьютеров — кончая интернетом. Россияне только в восторге: это естественно, как и любой человек, у которого появляются фантастические коммуникативные возможности.
Другое дело, что приходить в ужас стоит не столько от того, что откуда-то к нам заносится какая-то ужасная цивилизация, а от того, что мы сами делаем у себя в хозяйстве. Я имею в виду — в первую очередь — то, что происходит на телеканалах. Сейчас все каналы уже, как я понимаю, переключились на свою основную специальность — это копание в грязном белье. И вот возникает вопрос: вот эти дяди, и эти тети, которые все это делают, и дяди, которые ими управляют, этими марионетками, они ведь прекрасно понимают, что это телевидение смотрит и молодежь, и подростки, и даже дети. Так или иначе смотрят это.
Ведь они же понимают, что все эти передачи занимаются тем, что размывают границы между черным и белым, между добром и злом, между разумным и безрассудством, что это абсолютная нравственная энтропия. И это несут федеральные каналы.
Мне кажется, что вот от этого надо приходить в ужас и всеми силами — каким-то образом — это дело исправлять. Понимаю, это сложно, потому что это же не частный канал, с каким-то человеком, ответственным за что-то. Это стратегия главного института пропаганды под названием телевидение. Что это все такое, куда это идет? Каким образом? Вот от чего приходить надо в ужас.
— Говоря о телевидении — видите ли вы перспективу в современных российских сериалах, таких как «Год культуры» или «Домашний арест»?
— Конечно, естественно. Эта перспектива внушает какие-то надежды, потому что трудно было предположить, что телевизионные сериалы могут превращаться в произведения кинематографического искусства. Во всяком случае, американцы стали вкладывать столько денег, сколько вкладывается в большой кинематограф. Там есть выдающиеся по своей художественной силе сериалы. Вы видели «Карточный домик»? Замечательно, высокопрофессионально, абсолютно кинематографически сделан.
Замечательно, что в России появились… Ну, во-первых, были когда-то телевизионные фильмы – «Адъютант его превосходительства», можно еще вспомнить… И у нас появляются сериалы полной творческой состоятельности.
И работы Сергея Урсуляка практически все, и упомянутый вами «Домашний арест» — прекрасная работа, на мой взгляд, Слепакова и моего ученика Пети Буслова. Да и «Год культуры» — послабее, но все-таки. И, коли это существует и стало появляться, значит, следовательно, эта ниша, если не сказать шире, будет, я надеюсь, и дальше заполняться такого рода продуктом.
— Если я правильно понял ваш фильм «Магнитные бури», то один из его выводов о невозможности найти общую, не личную правду. Кажется ли вам, что мы до сих пор находимся в ситуации, когда люди не могут доверять лидерам, а могут верить только в себя?
— Ну, вообще-то говоря, думаю, что картина несколько о другом. У меня есть документальная работа, первая, которую я снял, семиминутная – «Репортаж с асфальта». Она об этом же, так получилось. О том, что человек сам по себе автономен. При том, что он член общества. Он автономен, индивидуален, он — личность.
Но как только он превращается в частицу толпы, все эти признаки теряет. Он становится просто частицей толпы. И действует сообразно действиям всей толпы. Подчас не понимая, что с ним происходит. Как он сюда попал. «Магнитные бури» — именно про это, там люди даже не понимают, почему этот оказался по ту сторону баррикад, а этот – по эту, вот о таком явлении.
Казалось бы, ладно, ну вот такое явление, его можно изучать. Но дело в том, что об этом прекрасно знают и этим пользуются те люди, которым это выгодно. В данном случае — там две группировки, которые делят и не могут поделить завод. И ясно, что им на руку эта стадность пребывания человека в толпе. Это крайне опасно, это потеря себя, потеря чего-то в своей жизни. Что, мне кажется, наглядно и происходит в картине.
— Сейчас говорят о том, что люди начинают политизироваться, хотят большего участия в политической жизни. Насколько серьезными вам кажутся такие разговоры?
— Я бы не сказал, что основной посыл — это желание людей участвовать в политической жизни. Кому нужна эта политика вообще? Обывателю нужно, чтобы рядом не было мусорного завода. Придают этому политическое звучание сами политики. Это все достаточно отработанная схема. Но люди должны быть в этом смысле активными гражданами — иначе ничего не произойдет, никаких изменений. Короче говоря, со всех сторон будут мусоросжигательные заводы.
— Тем не менее, в Москве не так давно прошла целая серия мирных митингов, что говорит об интересе многих людей к политике.
— В какой-то степени, да, конечно. Когда люди узнали, что происходит попытка в выборах нечисто сыграть в эту игру, естественно, люди возмутились. Но парадокс заключается в том, что требование только одно — давайте соблюдать закон. Давайте все соблюдать закон. Даже не требование заменить этот закон другим. Требование одно — давайте будем лояльны по отношению к закону. Там же не было никаких так называемых беспорядков — это раздутое дело.
— Формулировка «давайте соблюдать закон» очень похожа на диссидентский лозунг «Соблюдайте свою конституцию» 1960-х годов. Сегодняшняя ситуация отличается или это возвращение на тот же круг?
— Ну разумеется отличается, сравнить нельзя. Во-первых, это исторически совершенно другое время, да и по сути тоже эти процессы отличаются. Новое время придает новое качество всем процессам, в том числе и процессам оппозиционным.
— Чем сегодняшняя оппозиционная повестка отличается от повестки тех дней?
— Она более локальна, я бы сказал, но более внятна и более понятна большему количеству людей.
— Вы говорили, что сегодня жизнь стала жанром. Не произошло ли своеобразного эволюционного скачка — если раньше люди хотели творить в рамках художественного произведения, то сейчас они могут пытаться перенести художественный мир в реальность?
— Когда говорил, то имел в виду, что в современной жизни происходят такие вещи, которые раньше, еще несколько лет тому назад можно было бы назвать просто жанровыми сдвигами, авторской фантазией. Жизнь стала жанром в этом смысле, безусловно. Интересно ли это? Ну, наверное, да, для искусства, для литературы. Удобнее ли для самой жизни? Не знаю. Но авторский вымысел — он сейчас плетется фактически в хвосте. За реалиями жизни.
— Вы упоминали, что вместе со своим соавтором Александром Миндадзе отталкивались от жизненного материала, к которому старались подобрать жанр и стиль. Что меняется в таком подходе, когда жизнь становится жанром?
— Это методологический вопрос. По идее, напрашивается ответ, что, может быть, тогда крен и угол жанровости должен быть больше. Еще больше, опять-таки, чем в жизни. Либо снимать таким образом, чтобы эту жанровость жизни обнажить и показать. Я думаю, это в каждом определенном случае, в каждой определенной идее каждый раз по-другому. Литература, видите, в этой связи не то, что смелее, но как бы больше экспериментирует. Я имею в виду и Сорокина, и Пелевина — вот это направление литературы. Это вполне естественно, потому что сама жизнь — она просто беспредельно жанрова.
— Какой из ваших фильмов кажется вам наиболее актуальным в текущей ситуации в стране?
— Вы задаете вопрос, который требует такого уже отстранения, настолько издалека… Трудно сказать. Очень редко так получается, чаще всего – естественно, что вдруг я смотрю какой-то свой старый фильм. И вижу, что, в своих основных позициях, он не устарел, потому что коллизии в них, как бы сказать – они сущностные. Они имели отношение к реалиям жизни, а жизнь не настолько изменилась, чтобы, скажем, проблематика «Плюмбума» ушла в песок. Или какие-то настроения из «Парада планет» оказались исключенными из нашей жизни. Ну, я уж не говорю о «Магнитных бурях» или, скажем, «Времени танцора».
Вот, кстати, по поводу «Магнитных бурь» — где-то совсем недавно была ж перестрелка, часть рабочих за одних, часть — за других (в Славянске-на-Кубани 4 октября восемь мужчин обстреляли охранников завода «Кубанские деликатесы», после чего попытались взять заложников, в ГУ МВД сообщили, что причиной произошедшего стал конфликт собственников завода, — прим. «Газета.Ru»). Абсолютно то, что на экране у нас.
— Вы говорили, что киноязык «Магнитных бурь» может быть в будущем адаптирован другими авторами для массового зрителя, произошло ли это?
— Дело не в нашей картине, не в моей режиссуре, в каких-то приемах. Дело в материи как таковой — это пролетариат, это рабочие люди, homo faber («человек производящий», — «Газета.Ru»). Это всегда будет. И то, что сейчас время от времени появляется — конечно я вижу, если не родство, то как минимум соседство с собственной картиной.
— Есть точка зрения, что после того, как Тарковский в «Сталкере» объединил открытия Феллини и Антониони, в киноязыке уже не было больших изменений. Как вы относитесь к этой теории?
— Такой точки зрения не знаю, она мне кажется надуманной. Что там от Феллини, что там от Антониони? Там сам Тарковский, как таковой. И его заботы по развитию кинопоэтики как таковой, по определению своего авторского почерка продолжались в его следующих картинах — в том числе в «Ностальгии» и «Жертвоприношении» все это было и развивалось. А Муратова? А Герман, который развивался и делал-делал картины? Нет, слава богу, это было плодородное поле. Что от него остается, и что от него останется пока трудно сказать.
Если говорить о глобальности — тот материк, которым явился кинематограф Алексея Германа-старшего ничем не уступает в смысле поисков кинематографу Тарковского, потому что, мы уже привыкли, но это было абсолютно новаторское явление — язык и кинопоэтика таких фильмов как «Мой друг Иван Лапшин» или «Двадцать дней без войны».
Где-то в Одессе Кира Муратова работала. Ее «Астенический синдром» мне очень нравится своей как раз кинопоэтикой. И, потом, так или иначе существовал еще и мировой кинематограф, где тоже происходили кинопроцессы. Так, тихо-тихо, и Тарантино снял свое «Криминальное чтиво», да и выдающаяся работа Иньяритту «Вавилон»… Процесс идет. И на наш век хватит, и еще надолго хватит. Я-то абсолютно уверен, что вообще киноязык как таковой еще не собрался. Кино — искусство молодое. В буквальном смысле этого слова.
— Железная дорога играет важную роль в ваших фильмах, как минимум в «Пьесе для пассажира» и в «Остановился поезд». Это символ рельс, по которым мы идем, или что-то другое?
— Я с символами не работаю. Когда появляются символы, значит уходит образность как категория. Эти железные дороги в картинах говорят об огромности страны. Если в любой другой стране если ты сел в поезд, то приезжаешь их точки «А» в точку «Б». А у нас, в России, ты садишься в поезд, отъезжаешь — и ты оказываешься просто в другой жизни. С помощью поезда ты можешь поменять судьбу. Ты сел в Москве и вышел где-то через сутки. Ты попадаешь в другой мир, это не точка «Б», это смена судьбы. Потому и движутся поезда.
— Вы неоднократно называли одной из проблем ВГИКа закон о платном втором высшем образовании.
— Неоднократно говорил – и не только я. Не только ВГИКа — это касается любого второго высшего образования. Это колоссальная проблема, на самом деле, очень существенная. Молодой человек заканчивает школу и поступает в какой-то институт, считая, что он идет туда, что называется, по призванию. Но ему 17-18 лет. Он может ошибиться в выборе профессии, и осознание в будущем этой ошибки всегда драматично.
А что касается творчества, как такового, люди, повзрослев, возмужав, получив какой-то минимальный опыт жизни, и что-то почувствовав в себе, какую-то тягу к писательству, к кинематографу, к музыке, имели возможность раньше, в советские времена, поступать и получать бесплатное второе высшее образование. С одной оговоркой — надо было отработать три года по полученной специальности.
Таким образом поступали люди не младше 24 лет. А в жизни так устроено, что 17-летний человек и 24-летний — это колоссальная разница, иногда просто разные люди. Вот такой возраст. А если человек уходил из предыдущей профессии, из уже привычного способа жизни, это означало, что его действительно тянет — может быть, действительно, почувствовал какое-то призвание.
Поэтому все режиссеры и драматурги, которых мы знаем в отечественном (и не только) кино, это все люди, пришедшие в него достаточно взрослыми. Дело даже не в биологическом возрасте. Дело в том минимальном жизненном опыте, который приходит к человеку к этому времени.
В отличие от вчерашнего школьника. Который по нынешним законам является идеальным абитуриентом, поскольку никак не замаран предыдущим образованием и может претендовать на бюджетное место. Он приходит — да, прекрасно, мы их всех любим, они мне все нравятся, у меня сейчас хорошая мастерская, они все очень молоды, все замечательно. Вопрос вот в чем: что, какую историю они мне расскажут как зрителю? Вот в чем дело. Без этого внутреннего, повторяю, хотя бы минимального опыта, не то что трудно… Возможно ли вообще о чем-то сказать? Ведь все, что говорит творческий человек, все, что он создает, — это ведь все равно из себя, изнутри себя. Даже если он экранизирует «Войну и мир» — это все равно через себя, все равно о своих ощущениях, о себе самом. И дело не в первичном образовании, дело в возрасте, в том самом возрасте, когда уже накапливается какой-то минимальный жизненный опыт. Вот в чем проблема.
А идеальный абитуриент — это вчерашний школьник, потому что человек замаранный предыдущим образованием должен за второе образование платить. И платить немалые деньги, а таких денег нет. И целый слой людей, могущих и имеющих что сказать проходит мимо всех творческих вузов.
Это положение приводит к инфантилизации как таковой всего того, что мы видим на экране у молодых режиссеров, потом — на экранах кинопроката и на экране телевизоров. Это все создания умов неопытных, вне опыта, это все либо копирование чего-то предыдущего, до них сделанного, либо просто придуманные вещи, не сотворенные, а надуманные.

 Цивилизация
Цивилизация