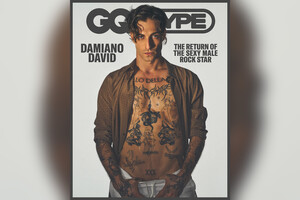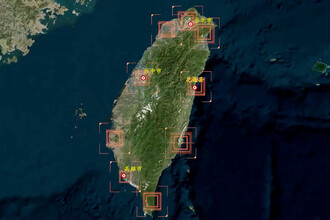В конце января «Гоголь-центр» представил пятую, заключительную часть цикла «Звезда», посвященного поэтам Серебряного века. Вслед за спектаклями об Осипе Мандельштаме, Анне Ахматовой, Михаиле Кузмине и Борисе Пастернаке в репертуаре театра появилась постановка «Маяковский. Трагедия», в основу которой легла поэма «Владимир Маяковский», написанная едва начавшим печататься футуристом в 1913 году и тогда же впервые поставленная на сцене.
Режиссер Филипп Григорьян, известный своими тонкими визионерскими спектаклями, для которых он сам придумывает всю сценографию («Чукчи» и «Алиса возвращается домой» на сцене театра «Практика», «Женитьба» и Камень» в Театре наций), превратил «Владимира. Маяковского» в насыщенное неожиданными образами мультимедийное действо. Как говорит он сам — подарил этому тексту технические возможности, которых не существовало в театре 100 лет назад.


Режиссер Филипп Григорьян перед пресс-показом спектакля «Заводной апельсин» по роману Энтони Берджесса в Театре Наций в Москве, 2016 год
Евгений Одиноков/РИА «Новости»В интервью «Газете.Ru» Григорьян рассказал, что от Маяковского столетней давности есть в спектакле и что будет, если поместить героев поэмы в нашу действительность.
— Филипп, «Маяковский. Трагедия» — ваш первый опыт работы в «Гоголь-центре». Вы сами выбрали для дебюта этот материал?
— Мы довольно долго обсуждали с Кириллом Серебренниковым фигуру поэта. Маяковский лично мне казался слишком очевидным выбором. Мы перебрали какое-то количество поэтов, например, одной из кандидатур, которую мы серьезно обсуждали, был Велимир Хлебников, но все-таки вернулись к Маяковскому.
Я понял, что хочу сделать Маяковского не в зените славы, а Маяковского раннего, то есть хочу поговорить о самой сути его гениальности, о том, с чем он пришел в этот мир.
— Во всех спектаклях цикла среди декораций есть звезда. В спектакле про Мандельштама — звезда Давида, про Пастернака — рождественская звезда из его стихов. В вашем она выложена из тротуарной плитки. Это отсылка к сегодняшнему восприятию фигуры Маяковского — не живой человек, а памятник на площади?
— Безусловно, мы работаем с этим. Конечно, есть Маяковский — живой человек, молодой, двадцатилетний, есть отлитый из бронзы. Это, безусловно, часть дискурса.
— И Никита Кукушкин в первом акте ведет себя как памятник: почти неподвижно читает текст поэмы, появившись из канализационного люка.
— Никита Кукушкин, несмотря на всю неподвижность, как раз противоположен образу памятника. Это условный голос того самого молодого Маяковского, который был против всех, которого не устраивало ничего, который не знал, что такое хорошо и что такое плохо. Точнее, знал: в его тогдашнем представлении «хорошо» было полным переустройством мира. Пусть даже и посредством его уничтожения.
Больше, чем маска
— Другие образы из поэмы, которые мы видим на сцене, тоже очень неожиданные: Буратино в наручниках с окровавленными руками, люди, пожирающие внутренности мертвой беременной женщины, человек с глазом, болтающимся на ниточке.
— Ну, в поэме все герои травмированы: Человек без уха, Человек без глаза и ноги, Человек с растянутым лицом. Мне было принципиально важно уйти от так называемой актуализации, формально оставаясь в ее границах.
В последнем акте мы поместили всех героев в некое современное пространство. Мы обобщали образы, двигались от прямой конкретизации к маске.
Например, Буратино, который на кассе «Макдональдса» оторвал голову клиенту и в абстинентном синдроме силится вспомнить, как он это сделал, — чуть больше, чем просто социальная маска. Нам хотелось нарисовать явления, некие силы, которые стоят за ней.
— Ближе к финалу наступает момент, когда кажется, что главный герой теряется среди происходящего, и стреляет в этих персонажей.
— Вначале у нас есть условный поток от Никиты Кукушкина, который просто произносит текст поэмы, знакомит нас с ним. Текст очень сложный для восприятия, его не помешает повторить два раза — хотя бы для того, чтобы понимать поэму и, приблизительно, то, что там происходит.
А вот герой Виторгана уже сталкивается лицом к лицу с этими персонажами. Знаете, говорят, красота — в глазах смотрящего. То, что он видит, — во многом порождение его собственных глаз. Несмотря на то что он в них стреляет, они потом оживают, их невозможно убить до конца. Это многослойный образ, он не бьет в какую-то одну точку.
— Казалось, что современное пространство, в котором происходит действие, — это поликлиника…
— Или морг. Или отделение полиции, или МФЦ, а, может, столовая...
— По мере развития сюжета меняется освещение. Оказывается, что стены разрисованы неоновыми надписями.
— Герой совершил революцию, переворот. Ну и оформил пространство соответственно, во вкусе анархистского сквота.
— Герой Максима Виторгана — что это за персонаж?
— Максим Виторган играет архитектора, взрослого, богатого, успешного человека, который начал терять вкус к жизни. Его гений от него уходит, и персонаж находится в поисках, пытается вернуться к той искре, которая двигала им в юности и сделала тем человеком, которым он стал. Его герой путешествует за своей душой.
Немного глупо себя чувствую, рассказывая это вам. Поскольку ужасно не люблю сужать поле возможных интерпретаций. Сама линия архитектора — это лишь одна из связующих арок внутри спектакля, на самом деле их куда больше. И очень
здорово, когда внимательный зритель или критик вдруг предлагает свою навигацию внутри спектакля, а ты вдруг понимаешь, что так тоже работает.
Парадоксальная реакция
— А для чего в постановке появился хореографический этюд, танец теней?
— Герой работает над макетом площади, здания и памятником Маяковскому. Комфортная, чистая среда, условный идеальный город, населенный идеальными людьми — черными человечками на макете. Мы с драматургом проекта Ильей Кухаренко почти полностью отдали эту часть на откуп хореографу Анне Абалихиной. В звуковую партитуру включен текст Трагедии. В некотором смысле это еще одно ее повторение.
— Премьера состоялась. Спектакль готов. Есть ли что-то такое, что вы хотели бы сделать по-другому? Может, что-то добавить?
— Есть какие-то вещи, где мы немного ошиблись, но переделывать радикально — себе дороже. В целом спектакль соответствует замыслу.
— А непонимания зрителя боялись?
— Я регулярно сталкиваюсь с непониманием, но никогда не сталкиваюсь с агрессивным непониманием. Я, безусловно, не говорю на очевидном языке. Не знаю, хорошо это или плохо, но я никогда не переживал того, что было, например, с тем же Маяковским в 1913 году, когда его освистали. Наоборот, я частенько сталкиваюсь с парадоксальной реакцией. Иногда сделаешь такой адский трэш, что, кажется, тебя сейчас проклянут. А потом из зала выходят какие-нибудь бабушки и говорят: «Очень красиво». Видимо, у меня такая судьба как у режиссера. Я не жалуюсь.

 Цивилизация
Цивилизация