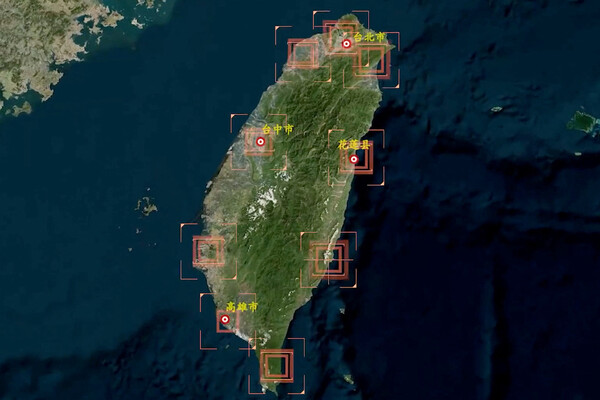— Вы говорили, что снимали на английском из-за того, что это более универсальный язык, чем русский. Этот расчет сработал?
— Знаете, универсальность штука тонкая, слишком рассчитывать на нее не стоит. Но мне кажется, что для драматургии сценария «Осколков» этот язык подходит больше русского. Он более удачно ложится в эту форму. Я снимала кино про безвременье,
в английском есть нужная для этого нейтральность, которая отгораживает от каких-то особенностей культурного кода, присущих другим языкам.
Если бы я снимала на русском, в кадре была бы нужна совсем другая фактура. С другой стороны, в этом был вызов, хотелось показать, что не важно, где ты снимаешь кино. Что можно поехать из Москвы в Нью-Йорк, если у тебя есть четкое понимание того, что ты хочешь сказать.
Мне немножко надоело, что всех разделяют на кланы, принадлежащие к флагам государств.
Мне же хотелось высказаться в едином творческом пространстве, не разделенном по национальному признаку.
— То есть вы с самого начала писали сценарий на английском?
— Да, сразу было понятно, что это самый подходящий язык для этой истории. Плюс мы писали вместе с Майклом Куписком, который живет в Лос-Анджелесе.
— А откуда вы его знаете?
— Нас в Лос-Анджелесе познакомили друзья, разговорились про кино, слово за слово. Как-то все сложилось. Майкл – начинающий сценарист, я была в каком-то пограничном состоянии и почувствовала, что готова попробовать рассказать в кино какую-то свою историю. Удачное стечение обстоятельств, в общем.
— В фильме собственно история рассказана очень прихотливо. Был какой-то изначальный импульс, сюжет? Как он звучал?
— Нет, истории самой по себе не было. У меня были какие-то зарисовки, которые просто приходили мне в голову. Допустим, вот человек – я даже не о себе сейчас, а вообще – спит и ему снится какая-то интересная, очень интенсивная жизнь. А потом он просыпается, открывает глаза и видит спину человека, который лежит рядом. Может быть, мне приснилось что-то такое, захотелось показать это на экране.
Идея о постоянно повторяющемся дне, о цикличности действия, тоже пришла мне ночью. Мне многое вообще приходит в этом состоянии между сном и явью.
Майклу эти мои мысли понравились, мы начали работать, писать. Это заняло почти год. Я летала в Америку, Майкл один раз прилетал в Москву. У нас было четыре драфта, был какой-то более жанровый вариант, даже пробовали переводить на русский в какой-то момент… Но это было сделано для того, чтобы убедиться, что так эта история не работает. В итоге мы вернулись к оригинальному варианту. Я поняла, почему Дэвид Линч в своей книжке «Поймать большую рыбу» писал о том, как важна верность оригинальной идее.
Энергию, которая появляется в момент, когда ты придумываешь кино, ничем невозможно заменить.
Сыграло свою роль и то, что я в какой-то момент дала почитать сценарий Роме Волобуеву (сопродюсер «Осколков» — «Газета.Ru»), который как раз и посоветовал вернуться к первому варианту и совсем чуть-чуть — но очень точно — его отредактировал.
— После первых показов зрители говорили о сходстве с фильмом Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде». Вы действительно на него ориентировались?
— Да, потому что момент вот это наваждение – когда появляется человек и говорит, что у тебя есть другая жизнь – совершенно меня завораживает. Мне кажется, многим знакомо это состояние, когда ты начинаешь думать, что реально, что правда, а что нет. Что порядок вещей, возможно, совсем другой, чем ты думал всю жизнь. Из этой точки можно уйти очень далеко – до размышлений о существовании параллельных реальностей. Меня эта тема очень вдохновляет на творчество (улыбается).
— Вы упомянули Линча, который, по свидетельствам очевидцев, снимает будто по наитию и терпеть не может объяснять, что он хотел сказать, где проходит граница между реальностью и наваждением. Вы знаете, где она в вашем фильме? Я знаю, что многих из тех, кто уже видел «Осколки», это интересует.
— Ну, смотрите. Есть точка обнуления – когда героиня просыпается. А дальше… Знаете, мне бы не хотелось здесь ничего разжевывать – не из вредности, а просто потому, что
есть какие-то вещи, которые исчезают, когда пытаешься из разъяснять.
Но вообще, для меня это пространство, весь этот отель – живой организм, как будто чей-то мозг. Его коридоры и двери – это коридоры и двери мысли, лабиринт сознания, так что и движение между ними происходит неосознанно. В общем, я не очень могу объяснить, как это работает, но мне кажется очень интересным про это думать. То есть ответа на ваш вопрос – какое из пространств более реально – просто не существует. Это лабиринт, который героиня проходит раз за разом, пока не находит для себя возможность из него выйти. Простите, я путано говорю, но не знаю, как про это говорить иначе.
— А куда уходят герои, когда находят выход?
— Ну, бармен очень долго существовал в этом пространстве, устал и уходит на пенсию (смеется). Куда уходит героиня – вопрос. Но я знаю, что на ее место приходит муж. Ну то есть приходит его очередь пройти свой путь по этому лабиринту. Когда я про это думаю, понимаю, что эта история, эти герои уже существуют немного отдельно от меня. Поэтому и ответы всегда немножко разные.
— Давайте теперь вернемся немного назад. Вы вообще давно хотели стать режиссером? Как это случилось?
— Да не то, чтобы давно. Я же и в кино не сразу пришла, потом захотела стать актрисой. И все это время шел какой-то процесс накопления ощущений, который в итоге вылился в то, что это привело меня к режиссуре. Это происходило очень постепенно, но совершенно естественно.
Мне неоднократно говорили, что у меня мозг устроен по-режиссерски, может получиться хорошо.
Я отказывалась одно время, а потом подумала, почему бы и нет.
Разные наши кризисы и фрустрации могут приводить в черную дыру, а могут становиться толчком для развития.
Я в какой-то момент почувствовала сильную потребность что-то создавать самостоятельно. Произведение, простите, искусства (улыбается). И очень важно, что в этот момент у меня появились единомышленники – мне очень повезло, хоть и не сразу. Я с самого начала хотела снимать фильм в Америке, у меня было очень четкое видение того, каким он должен быть. То есть он полностью был у меня в голове. Но меня так запугали сложностью съемок в Нью-Йорке, что я в какой-то момент устала от этих разговоров и съемки отложились на год. Но потом стали появляться люди, благодаря которым все и состоялось.
— Вы с самого начала решили играть в картине сами, не пробовали найти актрису на главную роль?
— Не-а. Причем это не моя актерская амбиция, а просто способ изложения истории.
Если бы мне пришлось просто режиссером, нервов и рефлексии было бы несравнимо больше.
Изнутри, как ни странно, было проще руководить процессом. Ну и потом это же не актерская роль по сути. Героиня очень закрытая, она как отражатель, который направляется в разные стороны и становится проводником для зрителя.
— Сейчас в российском кино регулярно ведется дискуссия о том, что можно показывать на экране, что нельзя. У вас есть какая-то самоцензура?
— Да нет, конечно. Есть истории, которые хочется рассказывать, а есть те, которые не хочется. Вот и все ограничения. Другое дело, что мне не нравится подход из серии «Чем удивлять будем?». Я не люблю это в театре, не люблю это и в кино.
— Насколько важно и ценно для вас то, что вы совмещаете несколько профессий, несколько раз переходили из одной в другую?
— Очень важно, конечно.
Это разные способы общения со зрителем. В театре он один, в балете – другой, другое мироощущение в целом. В режиссуре – третий.
И когда этих методов много они наслаиваются друг на друга, получается такое внутреннее 3D. Ты видишь и ощущаешь больше, чем если ты владеешь только одним способом донесения информации. Я верю в то, что нужно собирать разные навыки, это дает возможность больше донести до зрителя. Меня вообще завораживает логика интерпретации одних и тех же вещей разными людьми. Допустим, одну и ту же песню можно спеть совершенно по-разному, и мне всегда интересно, как человек выбирает способ интерпретации, его логика.
Я не могу сказать, что пробовала себя в разных областях, я копила навыки. А режиссерская профессия, наверное, лучший способ собрать их все воедино.
— Но вы же работали в театре, почему не занялись театральной режиссурой?
— Там есть многослойность. Нет, не то, чтобы ее не было в литературе, просто я очень визуальный человек, мне это ближе. Кроме того, я верю в то, что помимо потребности в высказывании, автором движет возможность не дать людям забыть о каких-то важных вещах – чувствах, эмоциях, о том, что нас делает людьми.
Это дар, а ты просто проводник. И у визуальных образов есть много планов, слоев, каждый из которых, в конечном счете, возвращает каждого конкретного зрителя к его личным переживаниям. Приводит к диалогу с самим собой. Мне бы хотелось, чтобы этот диалог был открытым и честным, потому что только тогда человек может двигаться, развиваться, а не только механически повторять изо дня в день одни и те же действия.
Я не смотрю телевизор, но когда я попадаю в пространство, где он есть, мне становится страшно, потому что я вижу на экране биороботов, которые забыли о том, что такое человеческие отношения.
То же касается газет и процессов, которые происходят у нас в обществе. Это ведет к чудовищному нарушению коммуникации, в результате которого люди доходят до совершенно жутких вещей, ужасной боли, только пройдя через которую у человека получается почувствовать себя живым. Мне хочется дать возможность избежать этого пути, не дать превратиться в зомби.

 Цивилизация
Цивилизация