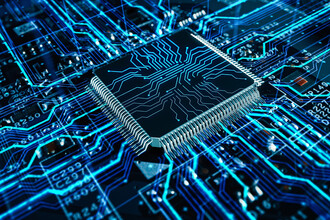<1>
Текст рассказов «Злачные пажити» и «Паразит», вошедших в постановку, написала Анна Старобинец — лауреат премии «Национальный бестселлер», прозаик и киносценарист, своими книгами «Переходный возраст», «Убежище 3\9» заслужившая у литературных критиков звание мастера русского хоррора (и даже ярлык «русского Стивена Кинга»). Поставила — режиссер и актриса Юлия Ауг, звезда фильмов «Овсянки» и «Интимные места», ведущая актриса «Гоголь-центра». Для своего спектакля, который разыгрывается в помещении киностудии, она взяла два рассказа — одноименный спектаклю, а также новеллу «Паразит». И поставила их, практически не изменив текст; подробнее о постановке можно прочитать здесь. В интервью «Газете.Ru» Старобинец рассказала о том, почему не хочет называться фантастом, просит театр не хватать ее за руку, а также о том, где история любви превращается в историю о социуме.
Литература с душой и без


— Рассказы, по которым сделана постановка Юлии Ауг, были написаны некоторое время назад. За это время многое изменилось, события не стоят на месте. У вас нет ощущения, что эти две новеллы — немного из другого времени?
— Не сказала бы. Эти два рассказа, «Паразит» и «Злачные пажити», были написаны не так уж давно, четыре года назад, и вошли в сборник «Икарова железа». Вот моя первая книга — «Переходный возраст» — ее я вспоминаю, как вспоминают детство: вроде это был, чувствовал и переживал ты, но ты с той личностью имеешь мало общего. Если бы кто-то взялся за ее экранизацию или инсценировку, то я бы чувствовала себя… необычно. А то, что вошло в «Икарову железу», откуда взяты эти два рассказа, — я еще чувствую, что их написала нынешняя я.
Но вообще у меня есть ощущение, что
все, что мы придумываем, все истории и сюжеты — они где-то существуют, в каком-то мире.
Так что для меня они живут. Поэтому у меня не всегда есть ощущение, что я их автор, но то, что сами истории существуют и имеют свое воплощение в некоем мире идей, мне кажется очевидным. Иначе бы не было сюжетов и образцов литературы, которым сто, тысяча лет и которые дошли до нас.
— Они дошли до нас через интерпретации и анализ, через хрестоматии, разве нет?
— Ничего подобного. Лично я, когда беру в руки книгу, воспринимаю рассказанную в ней историю в ее первозданном виде — сюжет и смысл. Можно сказать, что
сюжет — это тело литературного произведения, а смысл — это его душа. Одно без другого существовать не может.
Но история ради истории — вроде литературы про лезущие из пупка зеленые щупальца — это неодушевленное тело. Равно как и голый смысл, не воплощенный в адекватный сюжет, — это нечто аморфное, бестелесное.


— Насколько верно называть ваши рассказы фантастическими? Вас часто называют фантастом, но это какая-то странная аттестация — как будто у человека заранее отнимают право быть актуальным.
— Я пишу про жизнь. Я не выстраиваю свой, отдельный мир, а просто делаю одно фантастическое допущение, в остальном реальность остается почти привычной. И это допущение помогает мне в моих рассказах сакцентировать внимание на том, что я, собственно, хочу сказать. В рассказе «Злачные пажити» такое допущение — гипотеза, что сознание человека в некоем условном обществе цифруется, а затем переселяется в другое тело. В «Паразитах» — предположение, что
человеку с помощью определенного медицинского воздействия можно дать возможность совершить метаморфозу и превратиться в крылатое существо.
В заглавной для сборника «Икаровой железе» — утверждение, что у животных существует орган, который птицам и зверям помогает ориентироваться в небе, прокладывать маршруты через лес, мигрировать и гнать добычу, а у самцов человека считается вредным атавизмом.
Именно эта железа вырабатывает гормон, который вызывает желание воевать или, скажем, изменять жене. В мире этого рассказа мальчики ее обычно добровольно удаляют до наступления пубертата, они вырастают мужчинами — славными и покладистыми, спокойными и взвешенными. А герой рассказа остается жить с этой железой. Позже он все равно вынужден будет подвергнуть себя оперативному вмешательству, но счастья его новое состояние никому не принесет — не таким его любила жена. Простая история про то, что не надо забирать у человека его особенности, даже если они делают его асоциальным, потому что это будет уже другая личность.
Театр и кино


— Ну хорошо, а вот та интерпретация ваших рассказов, которую сделала Ауг, — она вас устроила?
— Это очень близко к тому, как это себе представляла я. Близко, но не идентично. Например, в «Злачных пажитях» я, в общем, писала историю, разворачивающуюся хоть и в антиутопическом мире, но больше о любви, ее наивности и даже глупости —
двое «первоживущих» влюбленных стали жертвой заговора и серии подстав, в результате которых их молодые тела были отданы богачу.
И сделано это было не без помощи судебной и пенитенциарной машины, однако у меня это огосударствленное зло было… ну, периферийным. Юля Ауг сместила акцент в сторону антиутопии — воплощенного в государственной машине зла, которое вынуждает влюбленных расстаться друг с другом и со своей жизнью. Однако ей этого удалось добиться только постановочными средствами, почти не изменив текст.
— Спектакль Юлии Ауг — ваш первый театральный опыт. Каково писателю, никогда не работавшему в театре, видеть свой текст в «людях» и мизансценах?
— Ну, первые сильные ощущения, связанные с превращением моего текста, я уже переживала — в кино, когда по моей книге и по моему сценарию была снята «Страна хороших деточек». Со спектаклем ощущения схожие, однако я сначала увидела видеозапись спектакля новосибирского театра «Старый дом», так же как и кино, — на экране ноутбука. От живого представления на сцене ощущения в несколько раз сильнее, конечно. Ведь когда пишешь, все картинки у тебя в голове — у меня они, как правило, довольно четкие. А тут приходит режиссер, берет твой текст и снабжает его совершенно другими картинками, людьми, выглядящими совершенно не так, как ты себе представлял. И для писателя это… ну, драматичный опыт. Писательство — работа одинокая. Театр — коллективная.
— Всегда ли так?
— Да. В нашей стране по крайней мере дело построено так, что писатель всегда остается хозяином своего текста — редактор может высказать свое мнение, что-то посоветовать, но ни одно издательство никогда… от меня ничего не хотело. Если что-то редактор и предлагал, я вежливо отбрыкивалась, меня выслушивали — и оставляли как я хочу.
Это мой мир, я его создала.
В театре ситуация, как вы понимаете, другая — и тут уже эмоции зависят от того, вызывает ли у меня уважение режиссер и его видение. Ауг, несомненно, вызывает.
— А в кино?
— Ну, в кино ты пишешь сценарий, заранее готов к тому, что ты винтик в большой машине.
— А вам приятно принимать в участие в коллективной работе, будь то театр или кино?
— Ну, я по натуре одиночка. К тому же у меня с театром не сложились отношения с детства.


— А с кино сложились?
— У кино есть некая магия погружения в реальность, которая тебя захватывает. А в театре степень условности, которую надо принять, как правило, не дает этого сделать. К тому же, знаете, кино — это такое простое зрелище, туда приходят с ведерком попкорна, чтобы пережить это погружение максимально глубоко; кинозал — место безо всякой снобской ауры. Поход в театр сопряжен с большим количеством ритуалов — от выбора одежды до правил поведения внутри. И еще у меня большая проблема с тем самым пресловутым «верю» — в театральном зале мне приходится слишком много достраивать самой.
— Мы с вами как раз находимся на фестивале «Точка доступа», который собирает спектакли, ушедшие с театральной сцены на «натуру», нетеатральные площадки. И таких спектаклей, которые играются в особняках, на заводах, которые хотят взять зрителя за руку или дать ему новый опыт и ощущения, — их становится все больше, и они становятся все популярнее. Кажется, представители этого вида искусства сами чувствуют кризис жанра и стремятся выйти из привычных рамок, чтобы найти какое-то новое слово.
— Я помню свои впечатления от одного из подобных перформансов, который поставил Кирилл Серебренников (это был перформанс, приуроченный к премьере «Человек-подушка» в МХТ. — «Газета.Ru»). Он был посвящен теме смерти, там шептали на ухо, воздействовали тактильно, нужно было двигаться в темноте… Я помню, что на меня это произвело огромное впечатление — мне было довольно жутко, тоскливо и страшно. Да, театр хочет схватить зрителя за руку. Но надо признать, что именно кино держит необходимую дистанцию по отношению к зрителю — я, может быть, хочу погружения, но при этом совершенно не хочу взаимодействовать близко.

 Цивилизация
Цивилизация