Эти гастроли — событие удивительное. Оперы вообще нечасто гастролируют, это слишком сложное мероприятие, а на сцене Большого современные оперы и вовсе практически не появляются. Тем ценнее возможность увидеть две совсем свежие постановки, сделанные для оперного фестиваля в Экс-Ан-Провансе, — премьера оперы Джорджа Бенджамина «Написано на коже» состоялась в 2012 году, а «Траурной ночи», поставленной по кантатам Баха, — в 2014-м.
«Написано на коже»


Генеральная репетиция спектакля «Написано на коже» на сцене Большого театра в Москве, 21 апреля 2017 года
Евгений Биятов/РИА «Новости»Бенджамин, последний и, как считается, любимый ученик Оливье Мессиана, — композитор очень сдержанный («неспешно возделывает линованные нотные поля», сказано о нем в буклете), и «Написано на коже» идеально подходит для введения в мир современной оперы —
негромкая и внятная, приглушенная, постсериальная, но не такая радикальная, какими бывают оперы в XXI веке.
Почти камерная, текучая, отсылающая практически к Дебюсси звуковая обстановка оперы создается расширенным оркестровым инструментарием, в состав которого введены виола да гамба, стеклянная гармоника и большая батарея перкуссий (что не означает, что в опере царит грохот — как замечает сам композитор, партитура написана так, что слушатель едва ли заметит изобилие ударных). Это едва ли шедевр, скорее образец того, как может выглядеть крепкая, аккуратная, в меру талантливая модернистская опера. Она, безусловно, проигрывает в записи, но в сочетании с режиссурой Кэти Митчелл внезапно становится заметным сочинением — таким, в котором оркестровые и сценические находки существуют в неразрывном, почти идеальном союзе.
Митчелл сделала себе имя на мультимедийном театре,
спектаклях, в которых сцена становится еще и съемочной площадкой — все происходящее тут же снимают, монтируют и выдают на экраны бесстрастные работники камеры.
Постановка оперы Бенджамина отчасти использует тот же прием. Сцена разделена на две неравные части — к прямоугольнику старого дома, в котором разыгрывают мрачный сюжет прованской легенды XIII века о жизни трубадура Гиома де Кабестаня, пристроены подсобные помещения, залитые холодным офисным светом, где обитают ангелы-криминалисты.
Легенда рассказывает о зажиточном хозяине, заказавшем юноше-художнику альбом миниатюр, в котором бы отразилась вся его удачливая жизнь. Его жена влюбляется в юношу, и ревнивый муж убивает художника, скармливая неверной жене его сердце.
Опера и решена как следственный эксперимент.
Герои говорят о себе в третьем лице (по версии Митчелл, они давно мертвы) и аккуратно комментируют собственные действия, а ангелы двигают рычаги постановки — подбрасывая вещдоки, помогая героям переодеваться, ведя по канве эксперимента. И даже вырезанное прямо на сцене сердце немедленно отправляется в коробочку с биркой. Конечно, в этом угадывается и структура средневековой миниатюры, с ангелами, обитающими по краям страницы, — у Бенджамина это холодные, любопытные, довольно безжалостные существа. Но ни время, ни пространство в этой опере, в сущности, не определено, и зал вздрагивает от неожиданности, когда юноша из прованской легенды на вопрос: «О чем ты думаешь?» отвечает:
«Я думаю о том, что, когда этот лес и это небо прорежут насквозь восемь полос наливного бетона, мы оба, и все, кто нам дорог, будут тысячу лет как мертвы».
Этими всполохами современности прошито все либретто — драматург Мартин Кримп не просто заставляет нас смотреть на историю трубадура современными глазами, но и его наделяет воспоминаниями о том, чему только суждено случиться. И потому в инкунабуле, над которой он трудится, оказывается ночная бомбардировка Гоморры, а на соседней миниатюре «нагие юноши сами вырыли себе могилу и ждут, когда их расстреляют». И, вероятно, не будет особенным преувеличением сказать, что
«Написано на коже» — это опера о веках насилия, в том числе (если не прежде всего) — насилии мужчины над женщиной, собственника — над своим живым имуществом.
При этом самой душераздирающей сценой становится не сцена убийства и не тяжелые галлюцинации о будущем, а эпизод, в котором художник признается мужу в преступном романе, описав (а не нарисовав) его в книге на потайной странице. А главная героиня, не умеющая читать, мечется по сцене, как слепая куница, повторяя «это слово? а это? где кончается одно слово и начинается другое? где картинки? Что проку женщине от слов? Покажи мне, дай мне увидеть слово «любовь»!».
«Траурная ночь»
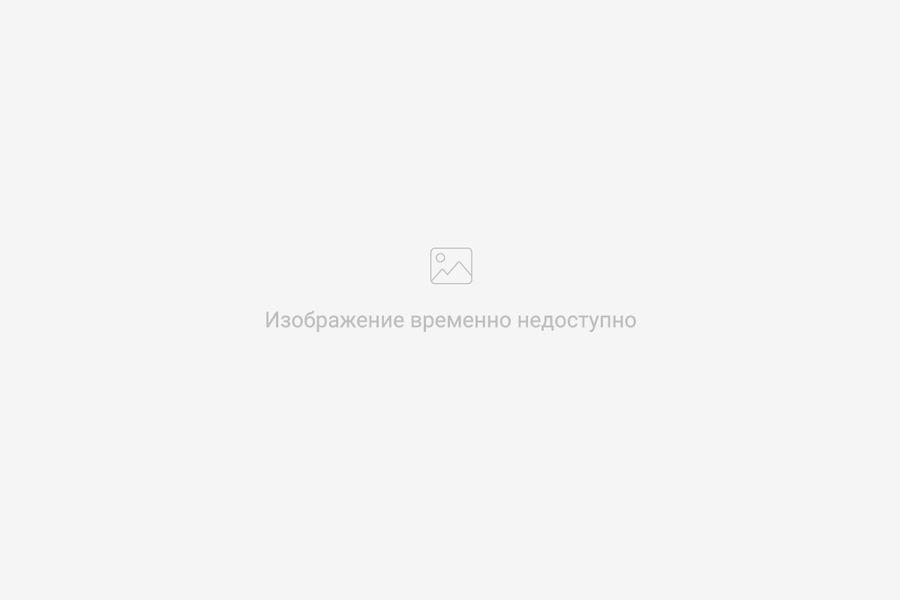
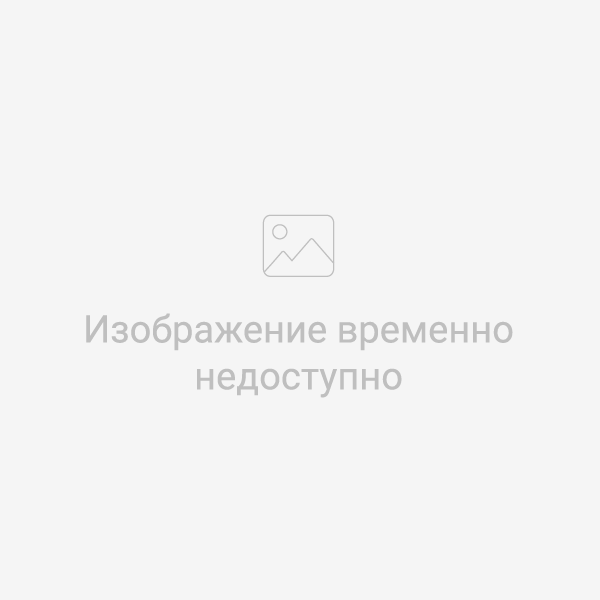
Вероятно, самая минималистичная из постановок Митчелл. Больше всего она похожа на ожившую инсталляцию видеохудожника Билла Виолы:
четыре человека, два брата и две сестры, сидя за простым столом, оплакивают только что умершего отца, пропевая траурные кантаты Иоганна Себастьяна Баха.
Все построено на приеме slow motion — певцы двигаются так, словно бы перед нами подрагивающая, замершая почти на паузе видеозапись. И этот простой ход оказывается невероятно действенным: полтора часа мы пристально, сосредоточенно вглядываемся в разные стадии горя.
«Эта работа о созерцании смерти», — скажет сама Митчелл.
Само это концентрированное всматривание настолько непохоже на то, чем принято заниматься в оперных залах, что становится почти религиозным переживанием — да что там, именно им и становится. Можно отметить чисто музыкальные удачи постановки, выстроенный баланс оркестра и голосов, точное следование сложной архитектуре кантат, но все-таки главная ее заслуга в том, что Митчелл и молодой французский дирижер, лидер ансамбля Pygmalion Рафаэль Пишон, фактически создали новую светскую мессу из разных, в основном довольно редких арий, речитативов и хоров из кантат Баха. И приблизили ее к современности, связав с универсальным, понятным всем сюжетом, без излишней театрализации и постно-вдохновенных лиц, с которыми обычно исполняют эту музыку. Так, что даже агностик может почувствовать то, что чувствовали когда-то прихожане церкви Святого Фомы.

 Цивилизация
Цивилизация























