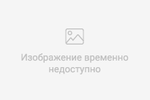В 1980 году венгр Георгий Галантай вместе с женой притворялись «Рабочим и колхозницей», пока итальянец Джульельмо Акилле Кавеллини расписывал их белые комбинезоны именами художников-классиков. За три года до этого московские концептуалисты из группы «Коллективные действия» вывешивали в лесу легендарный транспарант с текстом «Я ни на что не жалуюсь и мне все нравится, несмотря на то что я здесь никогда не был и ничего не знаю об этих местах».
И первые, и вторые так или иначе пытались перекодировать на свой лад поднадоевший язык политической манипуляции.
Всего на выставке в «Гараже» показывают больше 200 произведений в диапазоне от фальшивок концептуалиста Юрия Альберта, от руки переписавшего все письма Ван Гога к брату Тео, до тканевых полотнищ-занавесок неоакадемика Тимура Новикова, которые имитируют монументальную живопись.
И 60 авторов, от группы NSK, образовавшей одноименное виртуальное государство, до классика перформанса Марины Абрамович,
представленной здесь реквизитом к одной из акций: заряженный пистолет, строительный инструмент, веревка и еще дюжина опасных предметов. Во время этой акции художница неподвижно сидела на стуле, предлагая каждому желающему сделать с ней все, что угодно, с помощью этих аккуратно разложенных на столе орудий.
Все работы в Москву привезли из словенской коллекции «Arteast 2000+» Музея современного искусства в Любляне, который один из первый попытался обобщить раздробленный художественный опыт стран Восточной Европы. Эта коллекция была основана в 2000 году, в 2011-м стала основой музея современного искусства Metelkova.
Выставка в «Гараже» скроена из пяти сюжетов-«уроков»:
к свободе здесь рвутся через работу с собственным телом, «самоорганизацию» и «создание образа общего врага», «трудности жизни» в неволе и «взаимодействие».
Вместе они складываются в полноценную азбуку художественного протеста.
В 1970-х тело, например, служило инструментом освобождения концептуалисту Иону Григореску, который во время своих зафиксированных на видео квартирных перформансов то боксировал нагишом сам с собой, то разговаривал с телевизором, транслировавшим речь румынского генсека Константина Чаушеску. Квартира-клетка, камера и тело были для него единственными доступными художественными инструментами — и источниками стыда за собственное творческое бессилие, и символами нарождающегося полулегального искусства.
Современной рифмой ему выступил часовой фильм студентов Школы вовлеченного искусства и ее патронов из петербургской группы «Что делать» —
коллективная исповедь, которая начинается дружным зависанием в соцсетях, а заканчивается эпилептической пантомимой. Единственным доступным пластическим языком здесь становятся трясучка и неуверенные мимические подергивания, которые олицетворяют поиск собственного голоса.
Фильм из коллективного художественного акта в итоге превращается в запись из студенческой курилки.
Однако занятнее всего на выставке выглядит сочетание громоздкого и немного неуклюжего неофициального искусства СССР, которое выступало карнавальной изнанкой соцреализма, и художественных опытов Восточной Европы.
Александр Косолапов, например, в своей хрестоматийной работе «Ленин и кока-кола» столкнул две квазииконы — советскую и западную.
Полька Зофья Кулик смастерила фотоколлаж, дублирующий сюжет картины «Успение Пресвятой Девы Марии». На фото обнаженная художница неловко прикрывается двумя наконечниками-звездами, на голове у нее вместо нимба водружен уменьшенный варшавский Дворец культуры и науки, роль голозадых ангелов исполняет позировавший ей художник Збигнев Либера.
С одной стороны, большая часть представленных здесь работ — это искусство местечкового протеста, в рамках которого исторический контекст оказывается важнее качества. С другой — в конечном итоге все сюжетные линии выставки по мысли кураторов должны сложиться в универсальное пособие по борьбе с неволей — гражданской и творческой, с засевшей глубоко внутри самоцензурой. В результате
выставка оказалась не азбукой, а путеводителем по искусству, сделанному в неволе и потому тоталитарному по своей природе.
В свое время оно без остатка ушло в область политического высказывания и не оставило зрителю вариантов, как к нему относиться. Сейчас же оно оказалось очищено от того гнетущего общественно-политического контекста и растеряло половину смыслов, но приобрело новые, сегодняшние. Правда, кажется, что описаны эти «уроки» все равно с помощью языка, заимствованного у официальной номенклатуры. Это, по сути, все тот же беспощадный советский канцелярит, в который одни художники, паясничая и пародируя, играют, а другие неосознанно копируют, не видя ему альтернативы.

 Цивилизация
Цивилизация