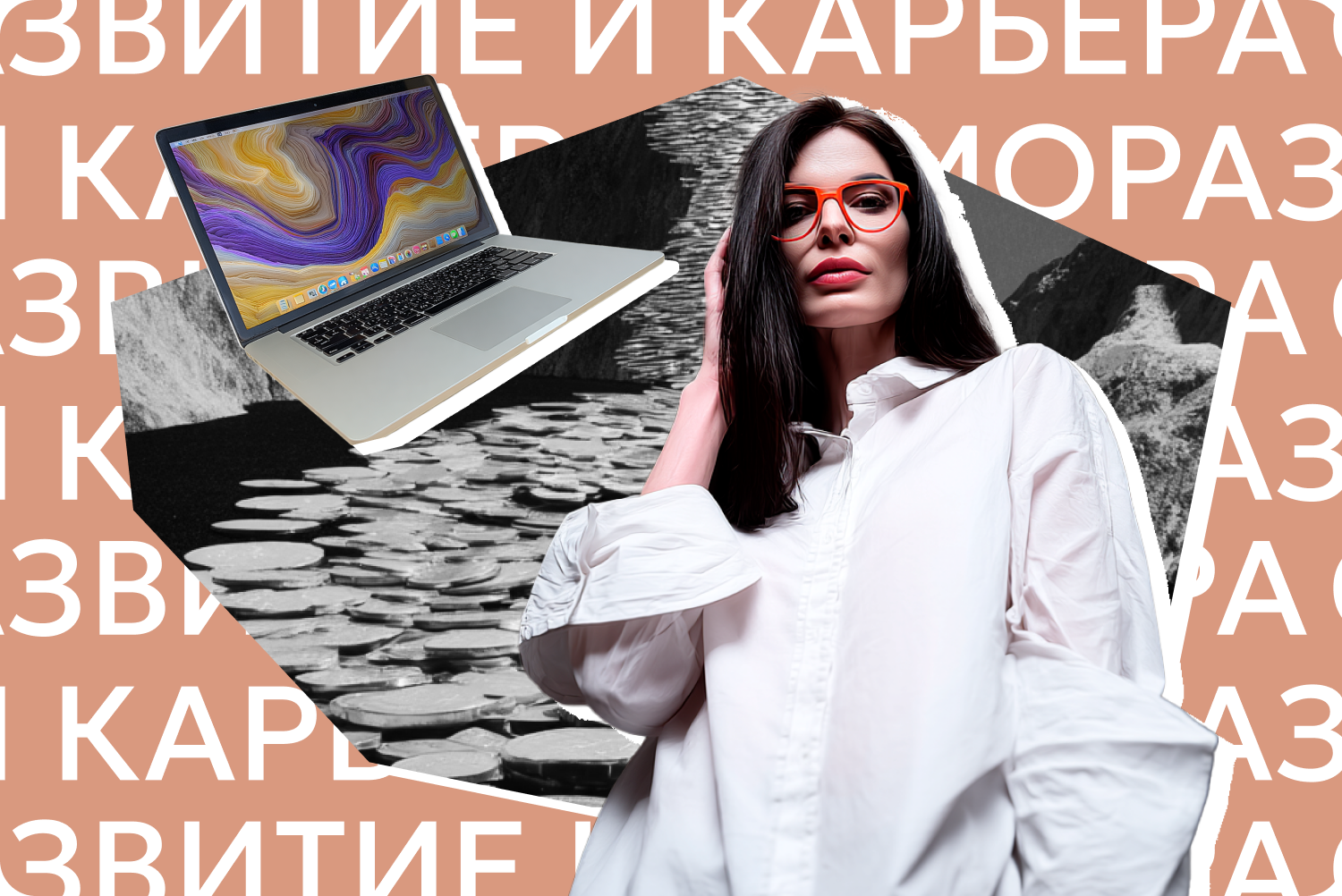«Безотцовщину», самую раннюю пьесу Чехова, часто называют по фамилии героя — «Платонов». Сельский учитель, местный донжуан, раздражен на себя и других, не видит себе применения в жизни и стреляется. Этот сюжет, ставший классическим как для русского, так и для европейского театра (и даже кино — пьеса стала одной из основ для знаменитой картины «Неоконченная пьеса для механического пианино» Никиты Михалкова), бельгийский режиссер Люк Персеваль ставит в свойственной ему манере —
как бы конспектирует драматурга, приподнимает текст над естественным течением времени, средой, пространством.
Точно так же он поступает и с другими пьесами русского классика — как в его «Вишневом саде», показанном в Москве два года назад.
Очевидно, Персевалю нравится усложнять задачи себе и исполнителям, придумывать ограничения, повышать уровень ответственности. Почти два часа актеры проводят в одной мизансцене, стоя лицом к залу, изредка меняя позиции. При этом спектакль экономен во всем: немаленькая пьеса Чехова дана с серьезными купюрами, сцена практически пуста, нет никаких эффектов — кроме, пожалуй, партии вокалиста и музыканта, композитора Йенса Томаса. Для Томаса же приспособлена и сценография (автор Филипп Бусман), за основу которой взято устройство концертного зала — если композитору нужен рояль, то он и будет декорацией.
Инструмент поставили на рельсы, пересекающие сцену наискосок. Не надо видеть в этом тяжеловесный символ: железная дорога нужна, чтобы вытеснить актеров на передний план.
При таком минимуме средств необходима самая высокая точность приемов — сработать должна каждая мелочь.
«Платонов» Персеваля как раз и захватывает безукоризненностью техники и продуманными частностями: правильными длиннотами, незаметными переходами, выбором актера на ту или иную роль, его жест, поза.
Мерой всех вещей в спектакле Персеваля становится секс. Раздеваться никто не будет — у режиссера на этот счет слишком жесткий лимит театральных эффектов. Но в первой же мизансцене он будет показан по-другому: пока на переднем плане неподвижные актеры смотрят в зал, девушка шагает по рельсам, а молодой мужчина ползет под шпалами и заглядывает ей под юбку. Тем не менее любовные признания здесь поданы в виде крайне напряженных эротических сцен.
Даже в обычную формулу вежливости режиссер вчитывает сексуальный подтекст — его заглавный герой, не слишком обремененный светскими манерами, обращается к гостье «позвольте ручку», стоя к залу спиной с расстегнутой ширинкой и приспущенными брюками.
Режиссера занимает конфликт полов, несоответствие ожиданий женщин и того, что способны дать мужчины — в основном, опять-таки, в сексуальном плане. Анна Петровна (Эшли де Брау) — немолодая, но по-прежнему изящная, прекрасная женщина с бешеной эротической энергией, спрятанной под маской апатии.
Эта роль, да хотя бы этот костюм — прозрачное платье, цветок в волосах — оспаривает представление о чувственности как о чем-то, что оставляют в молодости.
Вместе с искушенной Софьей (Лин Вильдемерш) и совсем еще неопытной Марией (Зои Тилеманс) они представляют в спектакле три возраста женщины с разной потребностью в физической любви. У них, по Персевалю, эта потребность со временем только растет. Гротескные мужчины здесь, наоборот, в большинстве своем ее лишены. Это ясно из первого же диалога: доктор Трилецкий (Стивен ван Ватермелен) с таким сладострастием говорит о собственном обжорстве, что
в его специфической сексуальности не остается сомнений — он утоляет влечение только за обедом.
Среди стариков и бесполых, с виду нездоровых мужчин Платонов — пожилой, непривлекательный, но не потерявший интерес к женщинам — просто обречен на роль героя-любовника.
Другой зацепкой может быть сложная личность — явление в мире Персеваля ничуть не менее дефицитное, чем мужское либидо. Состарив героя, режиссер отказал ему даже в гипотетической возможности будущего, сделал его несостоятельность полной и окончательной. Поэтому его Платонов еще больше озлоблен. Артист Берт Люппес играет агрессивного, неотесанного человека, чрезвычайно плохо приспособленного к жизни с окружающими, социопата.
Для других он чудовище — но чудовище это явно привлекательнее, чем обыватели-филистеры, ведущие растительный образ жизни.
Его примирило с другими только предчувствие смерти — как будто наконец Платонов нашел свое место. Он обходит собравшихся и у каждого просит прощения, а потом отходит, садится на рельсы и вкладывает в рот ружье. Выстрела, разумеется, не звучит — это и ирония над знаменитым чеховским афоризмом, экономная, как и весь спектакль Персеваля.

 Цивилизация
Цивилизация