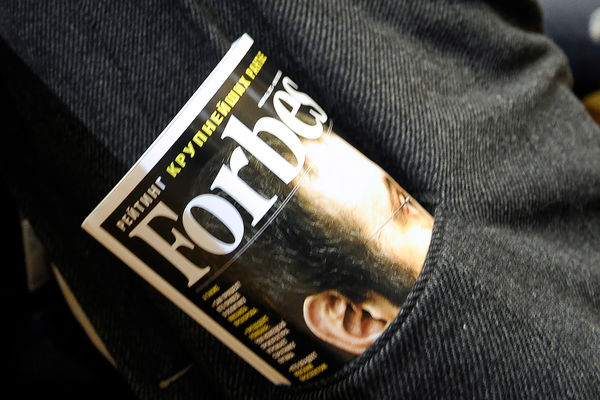Конец 1980-х. Киев. Цветут каштаны, власти воруют, народ пьет, обнищавшее «государство вечных очередей» разваливается на глазах. В парке «Победа» вернувшиеся с фронта афганцы приторговывают анашой и чинят аттракционы, фарцовщики едят манты со сговорчивыми милиционерами, а подпольная банда подростков штудирует в землянке тексты Ленина и готовит очередную социалистическую революцию. Однажды студент-библиофил по фамилии Пеликан из почтенного семейства археологов задумывает подарить своей ветреной подружке Ирке новенькие кроссовки-«пумы» на день рождения, из-за которых эскапический роман Алексея Никитина вдруг превращается в остросюжетный детектив с бандитскими разборками, убийством и разбивающимися судьбами.
Помимо писательства Алексей Никитин, физик по образованию, поставлял в Японию химические материалы и разрабатывал саркофаг для ядерного реактора в Чернобыле.
К сегодняшнему дню он написал несколько незлобивых, но и не очень громких повестей и романов, действие которых вновь и вновь разворачивалось в его родном Киеве.
В романе «Маджонг», например, он столкнул гоголевскую Русь с постсоветской Украиной за столом в уличной кофейне и впервые нащупал магистральную для своего творчества идею. Маджонг — бесконечная игра, правила которой давным-давно всеми забыты, — стал метафорой, развернувшейся сразу на несколько его текстов. В романе «Victory Park», рукопись которого еще до публикации попала в лонг-лист «Нацбеста» и в финал Русской премии, он рисует ту же самую позднесоветскую опереточную действительность, суть которой формулирует один из его героев: «Ты ищешь смысл, а смысла в этом нет — когда-то он был, но давно выветрился. Осталась традиция».
«Victory Park» — тоже игра, но вполне осмысленная и подчиненная авторскому диктату.
Роман то неспешно повествует о зарождении нового капиталистического мира на месте догнивающих коммунистических руин со столицей в парке «Победа», который местный криминальный авторитет называет «отлично налаженным и безупречно работающим предприятием». То огорошивает терпким коммунальным эросом с привкусом малосольных огурцов и докторской колбасы.
При этом язык не поворачивается дать роману односложное жанровое определение. В нем можно разглядеть социальный детектив об убийстве фарцовщика-одиночки и уголовном деле, от начала и до конца сфабрикованном местной милицией. Можно — поколенческий роман о двадцатилетних ветеранах Афганской войны, одни из которых сбывают наркотики в парке, другие их употребляют, а третьи — замышляют государственный переворот.
И все это — на почве вскрывшейся вдруг идеологической пустоты.
Девяностые в русскоязычной традиции принято наделять эпитетами «голодные», «буйные», «кровавые» и рисовать не знающим собственных границ балаганом истории. Или вслед за Пелевиным — галлюцинаторным миром хищных «креаторов», конструирующих новую русскую ментальность из чего придется. Никитина, кажется, миновала потребность обличать пассивность общества и невежество его тиранов, грустно вздыхать или хихикать, прикрываясь комичными диалогами обывателей из народа. Он и впрямь любуется уже многократно воспроизведенным в своих текстах миром, не скатываясь при этом в неуместную сентиментальность.
Его «Victory Park» предстает разросшейся лирической поэмой, галереей образов и случайных этюдов, скроенных в единую пеструю ткань, — данью медовому малороссийскому романтизму с советской спецификой, лишенному, к счастью, той экзотической разухабистости, от которой бросало в дрожь Набокова. Текст удерживается на плаву отнюдь не за счет сюжета, а за счет игры — с интонациями, мифологией быта, с историей, которая начинается Рюриком, а завершается квасящими фарцовщиками на кухне в панельной пятиэтажке.
Причем ни тем, ни другим, ни третьим Никитин не злоупотребляет.
Он вписывает своих персонажей в понятную систему культурных и географических координат: они прогуливаются по Крещатику, выискивая у знакомых букинистов «Остров Крым» опального Аксенова, покупают наскоро сшитые в Ереване джинсы, работают на газоперерабатывающих заводах и обедают в ресторане со звучным названием «Олимпиада-80», из-под полы торгующем паленой водкой.
Среди них — величественный былинный прорицатель дед Багила, олицетворяющий собой патриархальный (если не родоплеменной) уклад и заявляющий однажды внуку: «Все полезное уже заложено у тебя в генах. И в инстинктах. А остальное — мусор, просто мусор… Выдумки, сплетни, пропаганда», щеголеватый майор Бубен, крышующий наркобизнес, легион афганцев-фронтовиков — настоящих эпических героев трудной судьбы. Их истории напрыгивают друг на друга, переплетаются, образуя замысловатые повествовательные узоры, но ни одна из них так и не становится доминирующей сюжетной линией романа.
Попытка сделать смысловым центром романа не личность, а место все же обескровила его, лишила конфликта.
Маленькие потребительские страсти персонажей в результате оказались лишены эмоциональной мощи, их любовные драмы — ограничены кухонными склоками, а добровольной уход умницы-студента из физтеха в Афганистан превратился в пародию на каждодневный советский героизм. Едва ли кому-нибудь из них достанет силы вжиться в нарождающийся новый мир. Уже сейчас они — рудименты эпохи, обреченные пополнить череду провалившихся в зазор между двумя эпохами лишних людей.
Никитину, однако, одинаково чуждо суровое правдорубство и горький сарказм — все то, без чего традиционно не обходится литература о бесславном конце СССР. Интеллектуальность его прозы соседствует разве что с беззлобной иронией и пассажами, которыми бы гордился Довлатов: «Я уж не говорю о свободе слова, о ней я предпочитаю свободно молчать».


 Цивилизация
Цивилизация