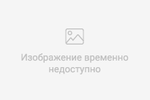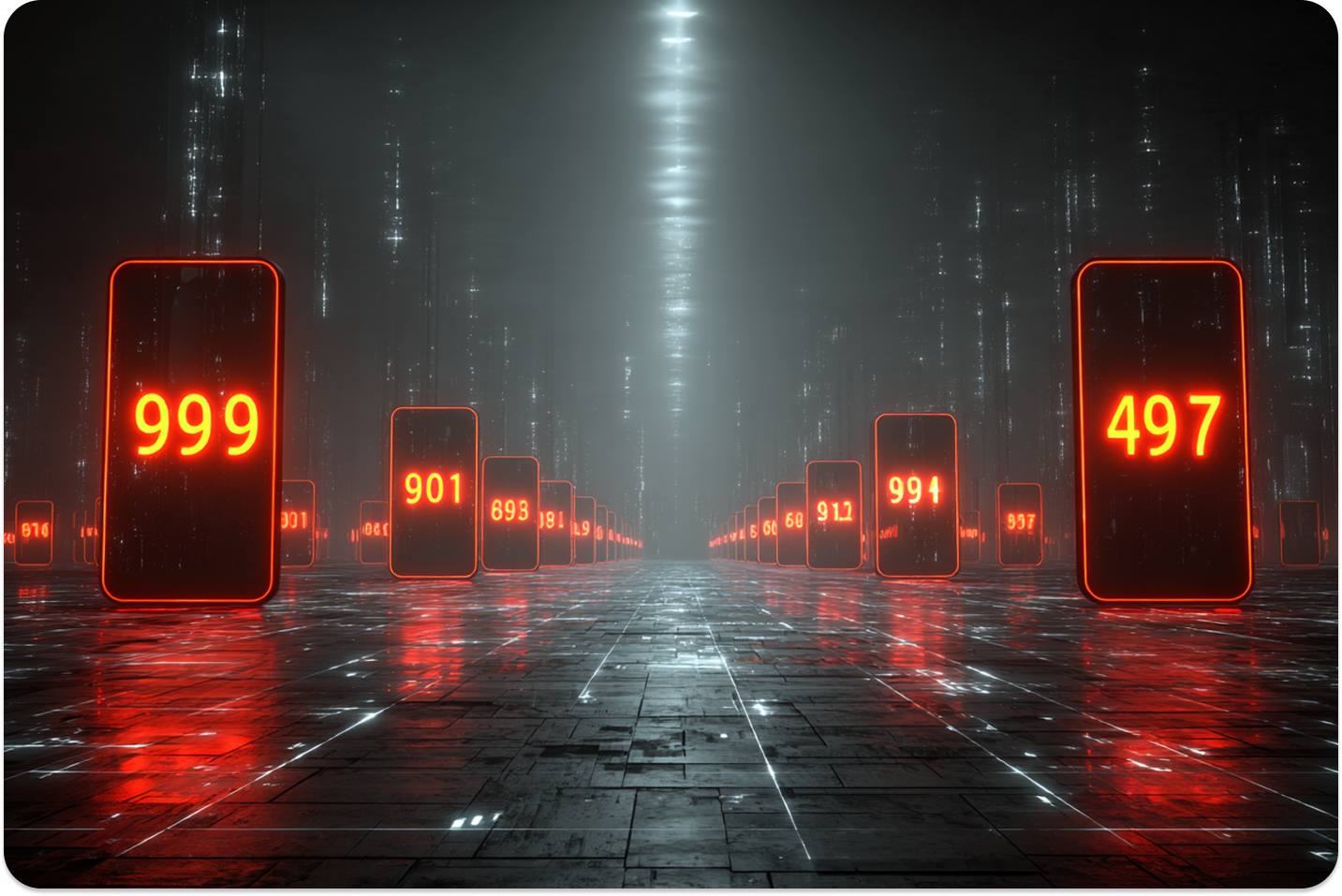Календарь музейных проектов редко предусматривает прямые рифмы между разными сюжетами, но в данном случае параллель налицо. Устроители явно держали в голове большую выставку Михаила Нестерова «В поисках своей России», которая проходила в Третьяковке совсем недавно, с апреля по август. Протянуть от нее смысловые линии к нынешнему «Реквиему» не составляет труда:
во-первых, Нестеров был учителем Корина, они вместе работали над храмовыми росписями еще до революции, а во-вторых, оба были людьми глубоко верующими и остро переживали советские гонения на религию.
В-третьих же, эта душевная боль не помешала тому и другому занять высокое положение в художественной иерархии СССР. Оба удостаивались Сталинских премий и почетных званий, хотя назвать их соцреалистами едва ли у кого-то повернется язык.
Сближала их судьбы и еще одна тема: и Нестеров, и Корин были буквально одержимы стремлением создать эпохальное полотно, отображающее их мысли и чаяния о судьбе православия. Нестеров свою идею фикс реализовал, представив публике незадолго до краха Российской империи картину под названием «Христиане (На Руси)». Правда, сам он был не очень доволен результатом, да и у зрителей картина особого ажиотажа не вызвала. Впоследствии Нестеров к религиозно-мистическим мотивам обращался крайне редко и осторожно: композиции подобного рода в советское время писались им тайком, не для всеобщего обозрения. И как раз в эту пору на свой opus magnum, главное произведение жизни, замахнулся Павел Корин, потомственный иконописец из Палеха.
Его замысел был до такой степени не в русле решений партии и правительства, что вызвал когнитивный диссонанс у представителей большевистской элиты.
Известно, в частности, что Клим Ворошилов неоднократно, эдак по-дружески, отговаривал художника от продолжения работы над «Реквиемом»: дескать, ну ты, брат, перегнул тут палку, нехорошо как-то получается, не по-советски.
А Максим Горький, близкий знакомец, посоветовал Корину хотя бы переименовать свой проект: если вместо «Реквиема» будет «Русь уходящая», появится удачная идеологическая отговорка, мол, перед вами метафора старого мира, нехотя уступающего дорогу светлому будущему.
Именно этой коллизии, растянувшейся на десятилетия — с 1925 года, когда Павлу Корину, побывавшему на отпевании патриарха Тихона, впервые пришла в голову мысль написать масштабное полотно про «последний парад православия», вплоть до 1960-х, последних лет жизни автора, — и посвящена выставка в Третьяковке. Символом ее выступает пустой холст размером 941 х 551 см, то есть формата большего, чем «Явление Христа народу» Александра Иванова.
Этому холсту предстояло стать основой для изображения, которое так и не появилось в окончательном варианте.
Сейчас громоздкая конструкция из загрунтованного полотна и решетчатого подрамника исполняет роль артефакта, своеобразного экрана, на который можно проецировать свои умозрительные представления о том, как бы могла выглядеть «Русь уходящая», если бы Корин все же исполнил замысел.
Дабы подстегнуть воображение, дизайнер проекта Юрий Аввакумов разместил на мольберте перед гигантским холстом последний авторский эскиз композиции. Впрочем, этот ход рождает двусмысленное ощущение:
чем больше прикидываешь и экстраполируешь, тем сильнее чувство, что такой картины в задуманном размере появиться не могло, что это была чистая утопия.
Хотя вот Илья Глазунов же брался чуть позднее за мегапроизведения на тему российской духовности — и ничего, шло на ура. Однако случай с Кориным другой по определению. Он рассматривал свой opus magnum как деяние, свершение, жизненный подвиг, но время было иное, нежели при упомянутом Александре Иванове. Иное во многих смыслах. С одной стороны, сумей он даже написать в итоге «Реквием» — а куда его деть, применить, кому адресовать при безбожной власти? С другой стороны, модернистский кризис изобразительности настал тогда опять, не в советской России, конечно, а в мире. Недаром же дизайнер экспозиции отчетливо намекнул, что пустой холст на выставке вполне соотносится с западными тенденциями 1960-х.
Словом, откуда ни взгляни на коринскую ситуацию — всюду клин.
Тем не менее легендарная серия подготовительных материалов к «Руси уходящей» не воспринимается все же в качестве курьеза или оксюморона. Главным образом речь идет о трех десятках портретов: эти персонажи должны были заполнить собой тот самый пустующий холст. Они не слились в трагически-возвышенный ансамбль на фоне интерьеров Успенского собора Кремля, как планировал художник, однако изображения иерархов и «народных типов», написанные Кориным в 1920–1930-х годах, чрезвычайно занимательны. В том числе и биографическими обстоятельствами прототипов. К примеру, среди героев есть два будущих патриарха РПЦ — Сергий Страгородский, с которого в 1943 году началось исчисление нового патриаршества, и совсем еще молодой иеромонах Пимен, тоже впоследствии ставший во главе церкви.
С ними в соседстве фигуры то знаменитые в православных кругах, то почти анонимные. В число персонажей замысленной картины Корин вовлек и слепого с нищим, чьи образы должны были олицетворять не столько конкретный исторический период, сколько христианскую традицию в целом. Или взять двойной портрет «Отец и сын», где запечатлены вообще-то вполне определенные лица — художники Сергей и Степан Чураковы, — однако автор возводит их в статус ярких и обобщенных представителей паствы. Но настоящий биографический триллер разворачивается, когда дело доходит до духовенства, черного и белого. Тут на кого ни взглянешь, сплошь новомученики, сгинувшие в лагерях и впоследствии канонизированные. Упомянуть хотя бы членов тайного монашеского братства, зародившегося в московском Высоко-Петровском монастыре и активно действовавшего в 1920-х годах.
Что ни судьба, то пунктирное изустное предание и статья Уголовного кодекса, а то и просто безвестная погибель при невыясненных обстоятельствах.
Когда их жития вынесены на экспозиционные стенды, вдруг отдаешь себе отчет, что Павел Корин весьма рисковал, буквально ходил по краю, затеяв портретную серию для «Реквиема».
Вроде бы официально признанный художник, автор мозаик и витражей в столичном метрополитене — и такое упоение ликами изгоев, преступных маргиналов, тянущих в дореволюционное прошлое.
Но вот ведь загадка: никто и ни разу Корину так ничего и не предъявил, не прижал к ногтю и не сжил со свету. Видимо, авторитет живописца был слишком мощен, и потенциальные экзекуторы робели перед его негласными покровителями из «высших сфер» — вполне земных, конечно.
После его смерти мастерскую на Пироговке даже переквалифицировали в дом-музей, подведомственный Третьяковской галерее. Там и хранилось все наследие Павла Корина до 2010 года, пока строение не потребовало неотложного капремонта. А материалы к «Руси уходящей» потребовали реставрации — ее только что завершили. В сущности, нынешний проект — всего лишь предъявление результатов реставрации, ничего сенсационного. Но все же он срабатывает, ударяет по мозгам, заставляет думать сразу в нескольких направлениях, не обязательно сопряженных с сегодняшней концепцией православия и государственности.

 Цивилизация
Цивилизация