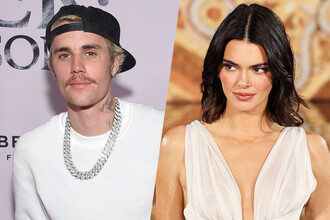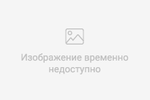Пробелов в знаниях о мировом искусстве ХХ века, накопившихся в СССР за десятилетия «железного занавеса», постепенно становится меньше и меньше. Не только за счет культуртрегерских усилий отечественных музеев и галерей, но и в силу развития зарубежного туризма. Теперь вовсе не обязательно дожидаться, пока к вам «на дом» доставят произведения того или иного прославленного автора, – можно и самому добраться куда угодно, чтобы получить личное представление. Порой даже возникает иллюзия, что выездное самообразование способно самой собой выровнять былые перепады между нашей и западной ментальностью в сфере искусства. Но это, конечно, всего лишь иллюзия.
Исторические разрывы будут зиять еще долго.
Похоже, этот фактор недоучли голландские специалисты из Гемеентес-музея в Гааге, когда формировали для Третьяковской галереи гастрольную выставку Пита Мондриана. Они исходили, вероятно, из того, что на родине Кандинского и Малевича нет особой надобности агитировать за абстрактную живопись, апеллируя к сильным чувствам и эмоциям. Дескать, и так же очевидно, что в свое время имел место революционный прорыв в эстетике, плоды которого хорошо известны и не требуют разъяснений. И заслуги Мондриана настолько давно и повсеместно оценены, что акцентировать их еще раз даже немного странно.
Гораздо полезнее для зрительского ума и сердца продемонстрировать, каким образом из пейзажиста средней руки получился гений беспредметности.
Заявленный в названии выставки «путь к абстракции» как раз и подразумевает исследование персональной эволюции – от ранних натурных этюдов к становлению метода, получившего наименование неопластицизм. Хрестоматийные же шедевры можно вывести за скобки, поскольку с ними и так все ясно. Ну разве что внедрить штук пять для формальной завершенности экспозиции.
Такая концепция вообще-то ничем не плоха и имеет полное право на существование, но с оговоркой, что зрелище адресовано публике, знающей о Мондриане не понаслышке. Желательно даже, чтобы имелся предшествующий опыт знакомства с подлинниками. Тогда этот музейный экзерсис мог бы без труда встроиться в общую мысленную картину. Однако возникает подозрение, что в Москве аудитория с подобной квалификацией не слишком многочисленна.
В заграничных турне наши туристы явно не бросают все дела, чтобы увидеть в музеях именно Мондриана, а внутри России отыскать его работы попросту негде.
Небольшая ретроспектива проходила в 1996 году в Эрмитаже и ГМИИ, вот и вся гастрольная история. А листание альбомов с репродукциями или поиск картинок в интернете вряд ли заменит встречу с оригиналами. Словом, почва выглядит недостаточно удобренной, чтобы ждать бурного цветения от не очень крепкого ростка.
Выставка заканчивается – не хронологически, а по сути – ровно там, откуда всемирная слава Мондриана только начинается. Чтобы оценить трудности преодоления терний, хорошо бы увидеть и звезды, то есть те опусы, по которым художник сразу и безошибочно идентифицируется. Таковых в Третьяковке крайне мало, из-за чего образуется ощутимая диспропорция в отношении работ доабстрактного периода. Львиная доля из сорока доставленных в Москву произведений отражает искания, эксперименты, перескакивания от манеры к манере — и это было бы чрезвычайно занимательно, если бы увенчивалось мощным финальным аккордом.
Но без него зрелище оказывается скучноватым, поскольку Мондриан как реалист, как символист и как кубист высочайшими достижениями не блещет.
Эти его этапы представляют интерес в качестве череды лабораторных опытов, приведших в итоге к искомому результату. Причем необходимо держать в голове, что установки неопластицизма на линейные структуры и цветовые плоскости не были выведены исключительно из преобразований натуры – большую роль тут сыграли теософские воззрения художника. Другими словами, путь от ординарной речушки с деревьями вдоль берега, изображенными в староголландском стиле, до геометрического «равновесия чистых форм» не может быть прослежен на одном только визуальном материале. Сколько ни выцепляй глазом те изменения, что происходили в работах Мондриана от года к году, особенно в первый его парижский период начала 1910-х, все равно не отделаться от ощущения, что главная метаморфоза случилась у него в голове, а не на холсте. Пусть даже не одномоментно, как у Малевича с супрематизмом, а в ходе медленного поступательного движения, но все-таки движения еще и мыслительного. Как говаривал сам художник, «универсальное нужно искать не в природе как таковой, а в отношениях, существующих в природе». Формулу этих отношений он выразил в неопластицизме: именно в нем автор видел искупление всех своих предыдущих огрехов, недопониманий и недоработок. Естественно, зрителю тоже хочется ощутить нечто подобное, но на самом интересном месте «рукопись обрывается».
А был ведь у Мондриана еще и американский период, когда он под конец жизни взялся за реформу собственного «постулата веры», однако эти подробности творческой биографии на выставке не обозначены даже минимально.
Гастрольный гаагский проект неплохо решает частную, несколько рафинированную задачу по обрисовыванию «периода становления» и практически не ставит себе целью кого-то ошеломить, взволновать, перенастроить. Между тем, зная скепсис нашего населения насчет «всякой там абстракции», именно такого эффекта загодя и ждешь от ретроспективы Пита Мондриана. Несмотря на сплошные сетки и прямоугольники в его неопластических работах, там есть большая выразительная сила, действующая и на мозги, и на эмоции. Вот с этого ударного момента и начать бы наше близкое знакомство, чтобы сразу стало понятно: художник достиг подлинных высот — значит, его подступы к этим высотам тоже немаловажны. В обратном порядке получается вроде бы честнее, но и преснее, зануднее, наукообразнее. Все же катарсис никто не отменял, и в случае с Мондрианом он вполне достижим. Правда, не здесь и не сейчас.

 Цивилизация
Цивилизация