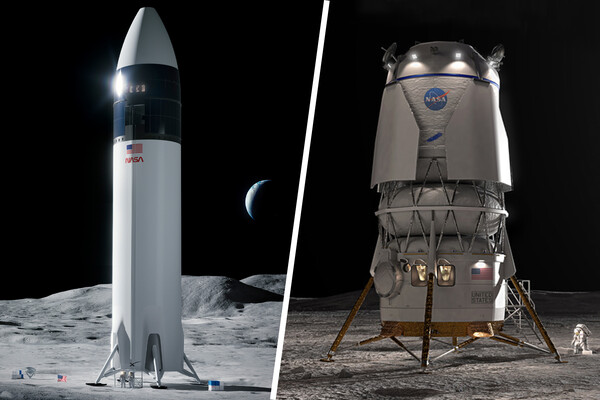Евгения Марчелли заслуженно считают украшением российской театральной провинции — в самом лучшем смысле этого слова. В Москве этот режиссер ставил всего дважды — в конце 90-х, в Театре Вахтангова. Однако за пределами столицы выпустил десятки спектаклей в разных городах, причем в каждом из которых успел поруководить театром и прослыть возмутителем сценического болота — его спектакли неизменно громки, стихийны и хаотичны и, конечно, всегда неуважительны по отношениям к правилам и канонам.
С 1991 года он возглавлял Тильзит-театр в крохотном Советске, городе в Калининградской области. В нулевых также был главным режиссёром омского Театра драмы, сделав эту площадку постоянным участником «Золотой маски». Затем он пришёл в Калининградский областной драматический театр, но оттуда его очень скоро выдавили. Последние полтора года он стоит во главе ярославского театра Волкова, и в этом городе реакция на его постановки тоже далеко не всегда бывает однозначной.
Впрочем, «Без названия» выглядит для Марчелли спектаклем более спокойным, чем обычно. Когда-то в другой его чеховской постановке, «Трёх сёстрах», прозябающие в провинциальном городе солдаты выплясывали под оглушительный клич Гарика Сукачёва «Свободу Анджеле Дэвис». Здесь ничего подобного не происходит, и речи нет о прямом осовременивании, но острота спектакля прежде всего в том, что
Марчелли ставит Чехова, как будто Фрейда, главными побуждениями героев делая сексуальные комплексы.
А начинается всё вполне себе невинно. Большая часть первого акта играется перед занавесом, на узкой полоске авансцены и по всему залу. Слуги-официанты снуют между зрительских кресел с подносами и скрываются за занавесом со вкусной едой, готовясь к будущему пиру. Появляющиеся один за другим гости ожидают прихода главного героя, а вскоре после его появления сцена наконец открывается, и на ней обнаруживается гигантский стол, сплошь уставленный бутылками с самым разным содержимым. А между ними пушка, из которой с грохотом выпускают вверх конфетти. Праздник этот оказывается прелюдией к последующему эротическому беспределу.
Михаил Платонов у Марчелли похож на Хлестакова в амплуа Дон Жуана.
Заглавного персонажа играет Виталий Кищенко — брутальный артист с хриплым голосом, крепким телосложением и мощным темпераментом. Кищенко — любимый актёр режиссёра, успевший в Советске переиграть у него всех главных героев и поехавший за Марчелли в Омск.
Субтильных интеллигентов той породы, к коей обычно причисляют Платонова, Кищенко играть не может по определению; какая уж тут чеховская тоска со всеми тонкостями души.
В мире спектакля Марчелли, где страстных женщин-вамп окружают невзрачные и хрупкие мужчины, он кажется единственным настоящим мужиком — только в том-то и дело, что на самом деле им не является.
Платонов у Кищенко — мачо с характером рязановского Жени Лукашина.
Женщины за него дерутся, нападают со всех сторон, вешаются на шею — а он не знает уже, что с ними делать и куда от них деваться. Каждый раз, когда видит любую из них, у него будто бы включается рефлекс: Платонов бросается в объятия и едва ли осознанно начинает ловко гладить пришедшую по самой фигурной части тела.
Милые подруги приходят к нему одна за другой, и снова, и снова он пытается им сопротивляться, в итоге неизменно капитулируя и беспрекословно подчиняясь приказу очередной из них.
Дамы в спектакле Марчелли куда больше, чем на чеховских героинь, похожи на сучек с непрекращающейся течкой. Однажды Саша, жена Платонова, застает его с генеральшей Анной Петровной: они лежат на траве в позе, не вызывающей никаких сомнений в характере ранее производимых парочкой действий. Но вместо сцены ревности она предлагает погулять втроём — с такой беспечностью, как будто ей совершенно все равно, с кем делить мужчину, лишь бы и ее не обделили.
Анна же Петровна обольщает его чёрным платьем — прозрачном настолько, что видно белье (которое она потом забудет надеть обратно). Сексапильная блондинка Софья вообще нянчится с Платоновым как мать — утирает ему подбородок, когда его стошнит, и строго, по десять раз, повторяет время встречи, чтобы тот не забыл.
На чувства Платонова всем этим хищницам наплевать — им нужно только тело. Ему же — и у Марчелли это обозначено достаточно ясно — хочется, чтобы и они, и вообще весь мир оставили его в покое. С приходом очередной женщины он устало встаёт, похмельный, с кровати, использует ведро от умывальника в качестве туалета, вынимает из пепельницы бычок и пытается прикурить от динамо-машины. Его тормошат, хлещут по нему то пиджаком, то простынёй, а ему хоть бы хны. Этот Платонов из породы тех людей, которых ничто не способно привести в чувства.
Но и на тех, кто от него страдает, негде ставить пробу: Марчелли не даёт повода сопереживать вообще ни одному из персонажей пьесы.
После бесконечных и изматывающих любовных похождений во втором акте в третьем герои срываются в штопор истерики: все персонажи начинают орать друг на друга в полный голос — так, что не всегда возможно разобрать слова.
Если в предыдущих действиях среди героев не было ни одного заслуживающего уважения, то теперь среди них просто не сыскать ни одного нормального. Муж Софьи порывается её задушить. Сама Софья бросается в ноги Платонову и неистово его лобызает. Окончательно свихнувшийся к концу спектакля Платонов принимает грудь генеральши Анны Петровны за фортепиано и начинает на ней играть. После такого уже сложно удивиться Софье, убивающей своего горе-возлюбленного несколькими выстрелами из револьвера. Платонов непонимающе глядит вокруг и падает замертво, хотя на теле его нет ни одной раны. Слишком трагический финал для такого спектакля? Не тут-то было! Прямо перед закрытием занавеса Платонов вдруг станет конвульсивно подпрыгивать и ползти по сцене, смешно пытаясь приподняться — как в дурацких пародиях на военное кино. Потом он всё-таки снова упадёт и ляжет без движения, но теперь уже будет сложно поверить, что он мёртв на самом деле.
Такие живут вечно — даже если не живут, а дергаются.
Интересно, что при всем радикализме Марчелли его нынешняя работа вовсе не выглядит ни перегруженным смыслами, ни тяжёлой для восприятия: спектакль получилась задиристый, стремительный и лёгкий. Вполне достойный образец зрительского искусства, только нестыдного, красивого и остроумного.

 Цивилизация
Цивилизация